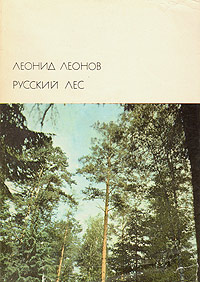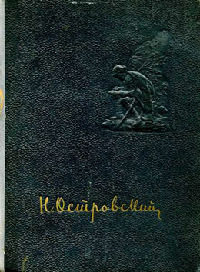блестящее платье; следом за нею загромыхали по ступенькам и плитам сапожищи. Они окружили труп.
«Выше свечи, ради бога! — прошептала графиня, поднеся руку ко рту, и сразу же последовал властный приказ: — Господа, прошу все уладить. Этому человеку полагалось предстать перед военно-полевым судом. — Графиня показала на мертвеца, потом взглянула на старшего по званию среди офицеров: — Вы поручитесь за это, — потом, повысив голос, обратилась к управляющему: — В деревне не должно быть никаких кривотолков, я не хочу, чтобы говорили, будто мои гости убили в Хорбеке человека из одной любви к убийству».
Они крепко держали Друската, холуи. Пришел его черед? Графиня подошла к мальчишке, подала знак — его отпустили, дама с улыбкой потрепала его по щеке:
«Малыш заслужил награду!»
Она обернулась и, высоко подняв голову, шурша платьем, вышла из церкви, точно не нашла в этом обществе должного почтения. Сказать последнее прости усопшим она забыла.
Пьяный сброд тут же на алтаре, перед лицом распятого, сфабриковал и быстро скрепил печатью приговор военно-полевого суда, наградил молодого Друската — для них это была извращенная забава — Железным крестом. Так они сделали его своим героем и совиновником.
— Владека застрелили у меня на глазах, потом кто-то рванул колокол, ударил в набат, по-моему, для смеха, они все были пьяные, а потом я остался наедине с убитым. Сидел на ступеньках алтаря, в отчаянии пытался молиться и не мог. «Будешь сидеть тут, — думал я, — пока не придет кто-нибудь, кому ты сможешь все рассказать, или кто-нибудь, кто тебя убьет, это все равно». Я не знал, куда деваться. Чуть позже действительно пришел один, управляющий вернулся, эта сволочь Доббин. Он задул алтарные свечи, тем не менее убитый был виден, он лежал на кирпичном полу, на небе за свинцовыми переплетами церковных окон стояло красное зарево — в ночи горел Карбов.
Теперь, дескать, надо уничтожить следы, и он мне поможет, сказал Доббин, а потом я ему помогу, против врага, против русских. Я-де герой, у меня и письменное подтверждение есть, и теперь нам надо, мол, держаться вместе.
Я погиб. Сволочь, хотел сделать меня своим прихвостнем. Владек был на его совести. «Убери труп, — скомандовал он. — Зарой где-нибудь как можно скорее. Полячишки, того и гляди, вырвутся на свободу. Если они найдут тебя возле трупа, висеть тебе на ближайшем суку. Убери мертвеца! Зарой его!» — Он говорил так, точно речь шла о падали, о дохлой скотине.
«Он во всем виноват, — думал я, — он тебя одурачил, держит тебя в руках, с этого часа я у него в могильщиках, зарывателях мертвечины, в сообщниках. Что еще мне придется сделать, а ведь придется делать все, что он потребует». Я ненавидел его, должен был отомстить за Владека, за себя, или ненависть убьет меня самого. Я бы кинулся с колокольни, повесился на первом попавшемся столбе, но в последнюю минуту подумал: «Значит, он будет жить как порядочный человек, кроме меня, никто не сможет ни в чем его уличить, но я в руках у этой свиньи, нет, нельзя такому жить!» Я был так измучен, я знаю, что значит ослепнуть от ненависти.
Сам собой в руках у меня очутился подсвечник, я оторвал его от алтаря, занес над головой — управляющий обернулся, но он был однорукий и не мог по-настоящему отбиваться, — я ударил, он рухнул, я на него. Мы боролись за пистолет, он выпал у Доббина из руки; лежа на спине, он ударил меня каблуком сапога в пах, пинок швырнул меня на церковные скамьи — треск, грохот, у меня почернело в глазах, но я судорожно сжимал пистолет. Не успел я подняться, а он уже стоял передо мной, вернее, надо мной, я нажал на курок — раз и еще раз, — он повалился на меня, как подрубленное дерево, чтобы встать, пришлось спихнуть его. Потом я смотрел, как он лежит, и не чувствовал ни ужаса, ни страха, я вывернул все его карманы, но то паршивое наградное свидетельство — его я так и не нашел.
В ту же ночь я отвез трупы к валунам, сперва одного, потом другого. Двое мертвецов скакали на моем коне к могиле, прежде чем наутро Гомолла поехал на нем в Хорбек — к жизни. Кто поверит этой неправдоподобной истории? А я пережил ее наяву.
7. Они сидели в креслах — двое мужчин, девочка и мальчик, — молчали и слушали: молодые — с тем беспечным участием, какое вызывает любая захватывающая история, и все для них было вроде повторения уже прочитанного в книгах. Старшие могли сравнить рассказ с собственным опытом и собственными переживаниями, а у Гомоллы и Штефана они были очень различны, и столь же по-разному оба оценивали поведение Друската. Они смотрели на него, но не говорили ни слова. Друскат тоже взглянул на них, сначала на одного, потом на другого. В конце концов он начал ощупывать карманы пиджака: хотелось курить, а сигареты кончились. Гомолла протянул ему свою пачку. Друскат поблагодарил, потом сказал:
— В ту пору я не смог бы доказать, как все произошло, да и сейчас не могу. Я попался на удочку управляющего, на минуту спасовал, и это стоило мальчишке-поляку жизни. Я думал, что сумею искупить эту минуту честно прожитой жизнью.
Аня встала, взяла свою сумку, небрежно закинула ее на плечо, и сказала — возможно ли? Друскат, не веря своим ушам, смотрел на нее, а она сказала, чуть ли не с презрением:
— От меня он это утаил, боялся.
Она пошла к двери, Юрген, разумеется, последовал за ней.
— Аня! Дочка! Мы же можем вместе... — воскликнул Друскат.
Она обернулась и бросила через плечо:
— У нас велосипеды. До свидания.
— Вот видишь, — заметил Гомолла, — им это непонятно.
— А тебе?
Гомолла ответил не сразу.
— Мы еще потолкуем. Сейчас я прежде всего хочу знать, что скажет прокурор. Потом поговорим. Может быть, завтра. Ах да, велено передать: она ждет тебя в Альтенштайне, Розмари. Катись-ка пока домой.
Он направился к двери, держался прямо без привычной подпорки — палку он забыл в машине, — но удавалось это ему с трудом.
— Густав! — Штефан хотел было остановить старика. Макс слыл поборником нетрадиционных методов и приемов, но сейчас ему пришлось вовсе не по душе, что Гомолла нарушил привычные каноны. Где оценка? Чего в конечном счете ожидать Друскату? Оставят его председателем в Альтенштайне? И не