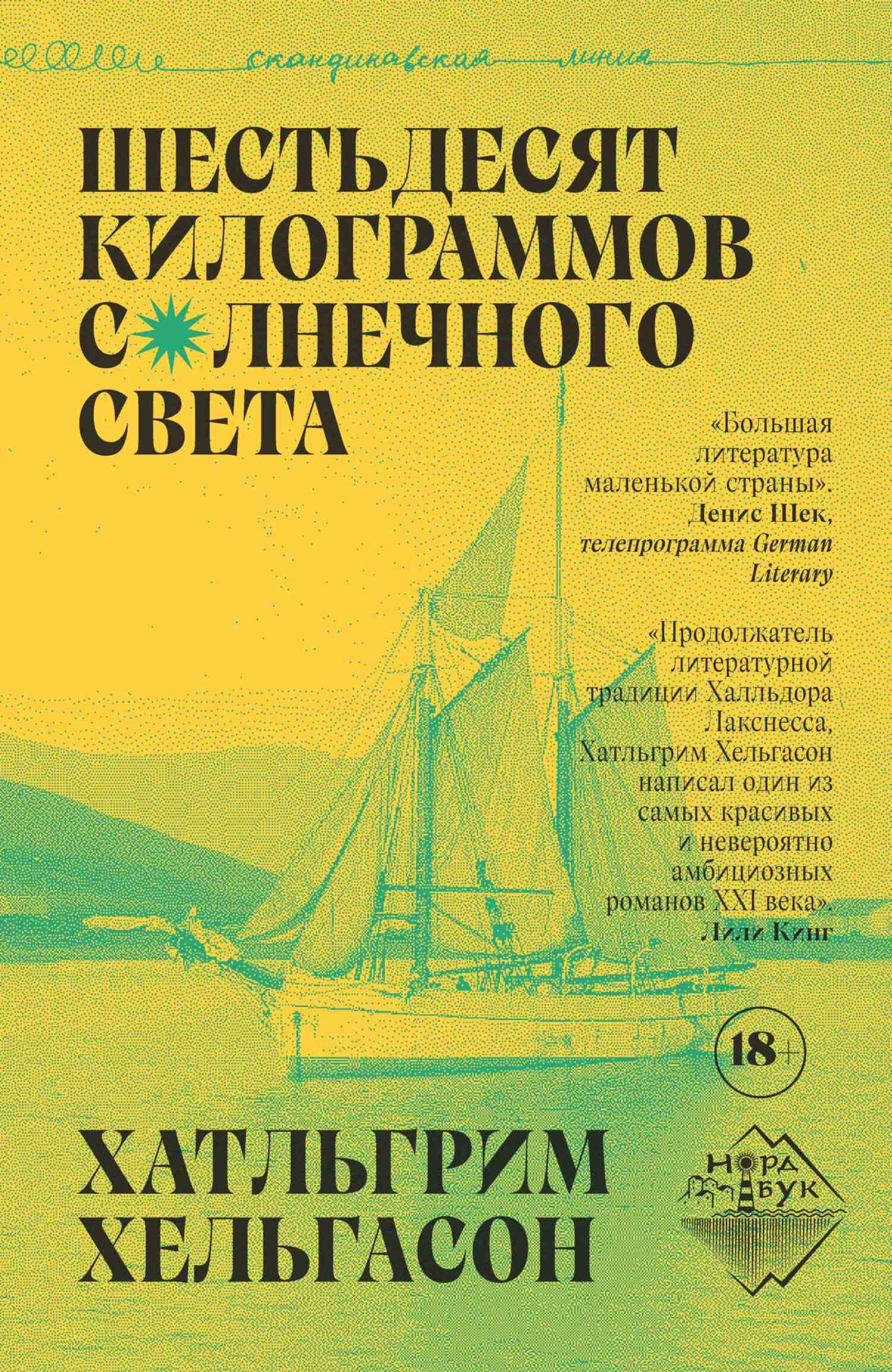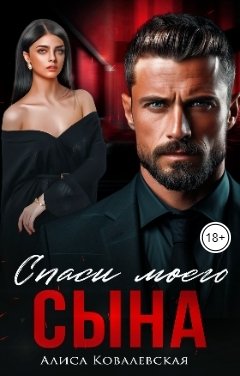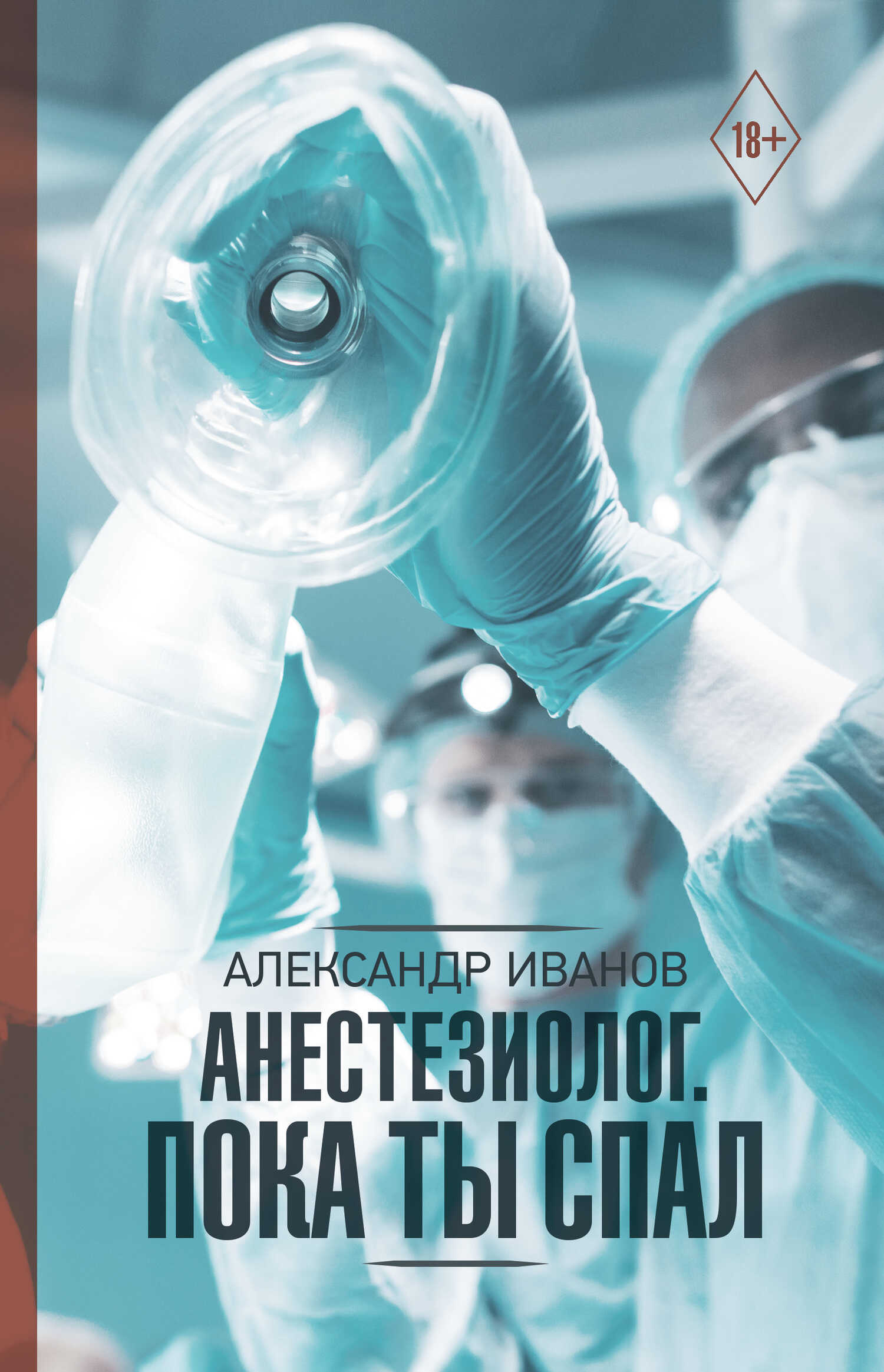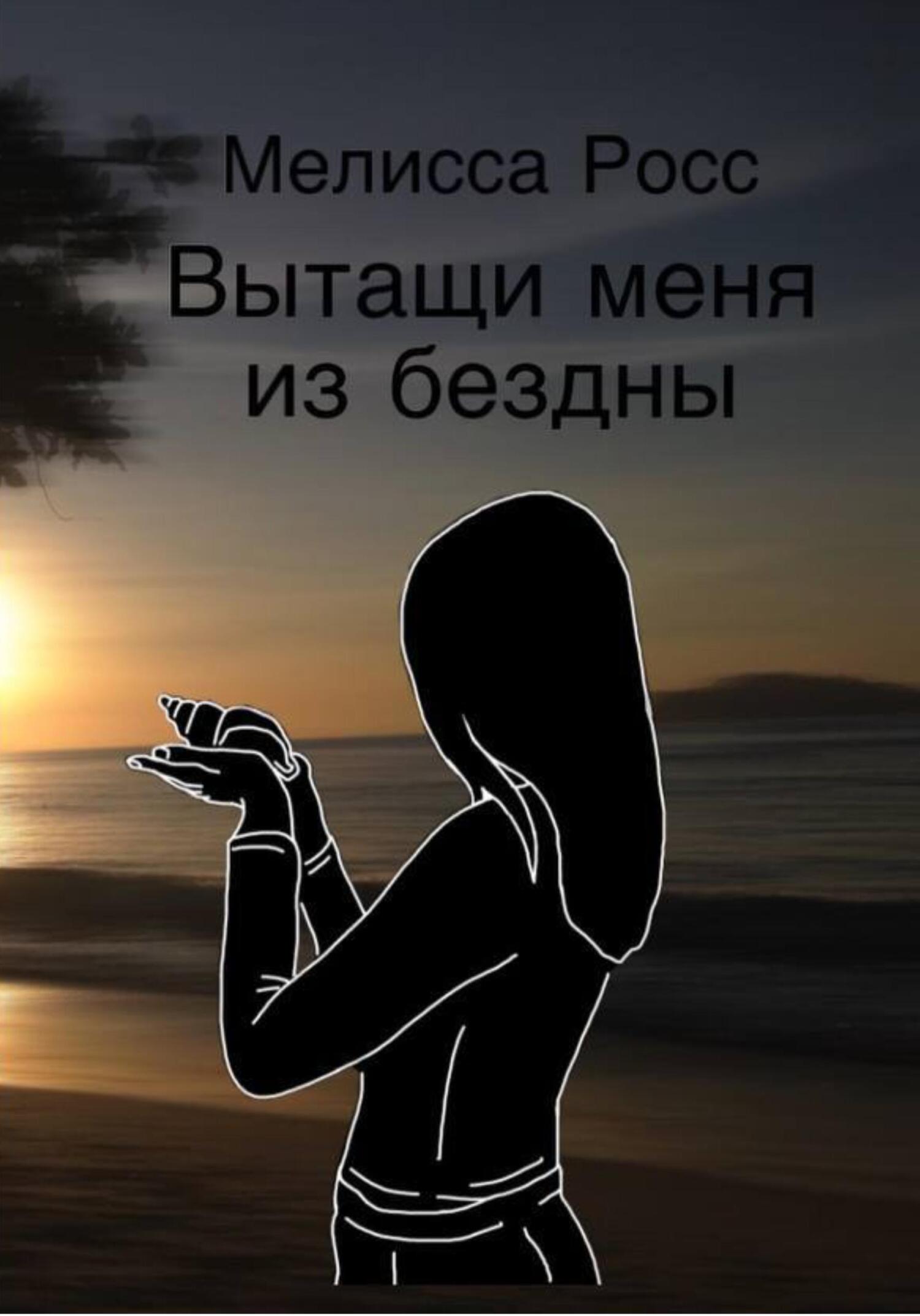Наконец распродали все, но тут Сыр Харальдссон заметил поварешку в руке старухи и захотел, чтоб ее выставили на продажу последним пунктом. «Э-э, тогда горе будет, ее моей матери альвы подарили», – соврала старуха. Эта поварешка была ее свадебным подарком. Двадцатилетний Тоурд с Холма вырезал ее для своей невесты; она носила ее на своем переднике шестьдесят шесть лет, помешивала ею в двадцати четырех тысячах кастрюль овсяной каши. Эта поварешка была так же близка ей, как мизинец или безымянный палец. Но юрист все равно взял ее в руки и стал оценивать эту кожисто-мягкую вещь – но тут из коровника вдруг вышел какой-то наглец, с победоносным видом потрясая над головой приемником:
– Радива! Радива!
Это был Бранд с Подхолмья, ненормальный сын Эферта и Берты. «Радива сене!» Он протянул приемник Йоуи и, корча рожи, отступил далеко назад от «радива сене». Хреппоправитель положил приемник на ящик. Ну, мол, я не знаю, «сейчас, допустим, четыреста крон». Грим вырвался вперед из толпы и уставился на приемник, побагровев. Кто проболтался? Данни? Данни, зараза! И как дурачок с Подхолмья смог найти его в сене? Он не мог… это не должно быть… это было…
Грим твердым шагом подошел к аукционисту через весь двор, взял приемник под мышку, а дальше не знал, что делать; на него напустились двое человек: «Эй, дружочек!» Непроизвольной реакцией мальчика было – включить радио. Прошло несколько секунд, прежде чем оно ожило. Он пятился прочь от Сыра и Мари-ноу и кричал им: «НЕТ!» – а потом из американского радио грянул совершенно неистовый рок: гитара, саксофон, пение: «I’m like a one-eyed cat / Peepin’ in a sea-food store…» И наступающие, и вся толпа – опешили. Они не ожидали такого ужасного шума. Что это? Мальчик почувствовал, что ошеломил их, и продолжил в том же духе. Вдруг как будто у него в руках очутился святой дух: он внезапно начал качаться, колбаситься под музыку, трястись и ломаться, мотать головой, лягаться ногами. Толпа смотрела на него в изумлении. Что это такое? Он сунул радиоприемник своим землякам. Они отшатнулись, как от злого духа. В мальчишку кто-то вселился? Вот он положил приемник посреди двора и начал ломаться и дергать ногами пуще прежнего. Он явно совсем взбесился. Под его ногами дымилась земля. И сейчас он орал на всех участников аукциона, которые отшатнулись еще дальше к стене пристройки, к коровнику:
I SAID SHAKE RATTLE AND ROLL!
I SAID SHAKE RATTLE AND ROLL!
I SAID SHAKE RATTLE AND ROLL!
I SAID SHAKE RATTLE AND ROLL!
Сыр выражал волю многих, а может, и всех, когда осмелился приблизиться к этому дьяволенку и громко и четко сказать:
– СТОЙ!
И они подошли к мальчику и попытались его схватить, а он упал и съежился, накрыв собой приемник, от чего шум несколько поутих, а потом громко разревелся.
Шлюзы открылись. Долина наполнилась слезами. Грим жил на свете семь лет. Семь тощих лет. И сейчас все накопленные за это время слезы хлынули.
Бедняжка родимый. Эйвис склонилась к нему, попыталась утешить брата, но не смогла унять этот плач, который вдруг разлился, словно большая река, исток которой зародился семь лет назад и которая вбирала в себя месяцы, ручейки, речки и годы, и сейчас затопляла косы и пески и целый двор на хуторе.
Плакать полезно. Но не перед толпой из тридцати человек. От этого слез только больше. И он плакал-плакал, и только пуще плакал из-за того, что так много плачет. Слезный потоп.
В каждый прожитый день жизнь изготовляет одну слезинку и откладывает ее в сторону, копит их, чтоб иметь запас на черный день; время проходит, а черный день все не наступает, – но вот в один прекрасный день эту плотину прорывает. Вот какой это был плач.
Грим никак не мог понять, отчего это он вдруг в решающий миг сломался перед всей округой, и ревел в голос целых полчаса. Его папа спустился с чердака и погладил его по голове. Сейчас они впервые с прошлого раза посмотрели друг другу в глаза: он и Эйвис. Короткий взгляд, три килограмма тяжести. Мальчик почувствовал это и принялся реветь еще сильнее, Хроульв внес его в дом. Бабушка выколдовала откуда-то чашку какао-супа, хотя в долине все какао закончилось и в печке огонь остыл. Грима посадили на буфет и позволили держать радио при себе; Эйвис обняла его, а народ смотрел на него: мол, бедненький мальчик. «Это скверно, когда в тебя вот так кто-то вселяется», – сказала старуха. Затем люди снова вышли: пора бы и честь знать. День уже закончился.
– Да, я такого отродясь не видала. Это как будто сам дьявол масло сбивает.
На улице спускались сумерки. Молодые парни погрузили коров и стулья, кур и матрасы на платформу грузовика, который пригнал Гисли. Остальное сложили в тракторный прицеп, и люди набились в него же и в машины, и сзади на прицепное устройство. Эферт с открытым ртом сидел за рулем «Фармалла», Берта сидела на поддоне, как в седле. Эйвис и Грима посадили на задние сиденья джипа Йоуи, рядом с Гейрлёйг. Данни тоже был там и в основном смотрел в окно с виноватым выражением на лице. Йоуи помог Душе Живой сесть на переднее сиденье, она взялась обеими руками за дверной проем и сказала: «Нет, лучше я как следует соберусь», и снова заскочила в дом. Может, она захотела в последний раз увидеть Отшельника из запотевшего окна кухни. Она пошла вдоль вереницы машин: джипов трех марок, тракторов «Фармалл Каб», «Интернейшнл» и «Фергюссон», дымивших выхлопными трубами в вечернем безветрии, и люди смотрели на нее: старуху в сапогах, колготках и платье до колен, в грязном платке на голове и переднике, который она забыла снять. Народ провожал взглядом эту крошечную старушонку, которая быстро прошла мимо прицепа и платформы – стесняясь, что заставляет всех ждать, – и скрылась в пристройке.
Мальчишки стояли на платформе сзади и озирались в поисках Эйвис: может, она в прицепе? Да, вот ее отец. Нет, она в джипе у Йоуи, сказал один из них. И все они стали окидывать взглядом долину, озеро, тун, склоны, все было таким пустым, и все они подумали одну и ту же мысль: Как такая негодная долина взрастила такую красоту? И у всех появилась дрожь в коленках.
Она могла бы продать одну ямочку со щеки и купить дюжину таких долин. А может, она уже обе свои ямочки продала? Сегодня они их не