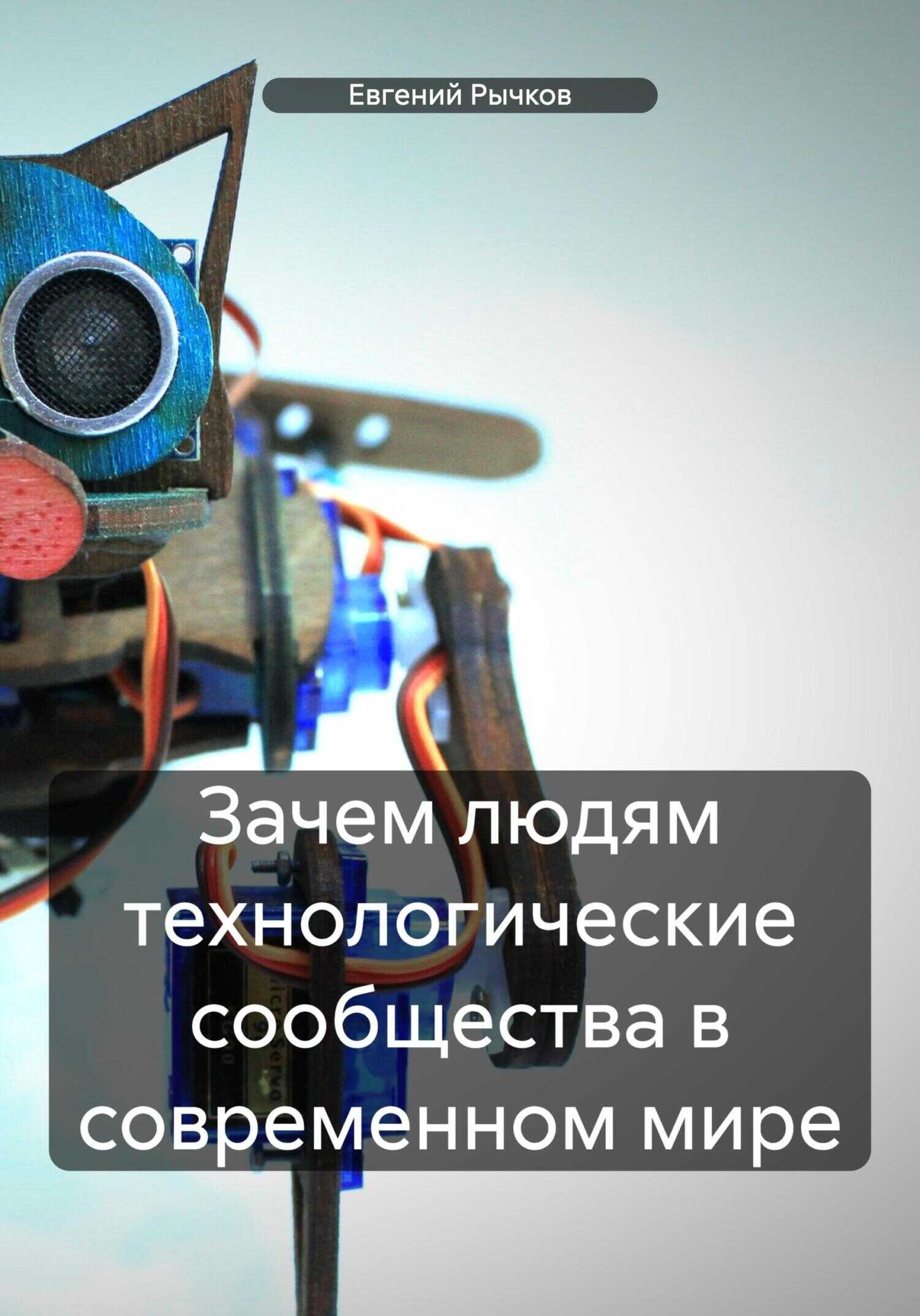обязаны этим вам.
Охранники потащили де Глатиньи к глубокому оврагу в самом сердце джунглей.
Там была яма — два метра в длину, полметра в ширину, метр в глубину — классический одиночный окоп, который легко мог послужить могилой. Один из охранников проверил его путы и поставил над ямой. Другой заряжал автомат.
— Ди-ди, ди-ди, мау-лен.
Де Глатиньи шагнул вперёд и спустился в яму. Он лежал, вытянувшись на онемевших и спутанных руках. Небо над ним сквозь листву высоких деревьев казалось особенно ясным. Он закрыл глаза, чтобы умереть или уснуть…
На следующее утро они выволокли его и привязали к товарищам. Перед ним оказался сержант Мансар, который раз за разом повторял:
— Мы не держим на вас зла, господин капитан.
И чтобы поддержать его, начал сквозь зубы рассказывать о Булонь-Бийанкуре, где родился, о танцполе на берегу Сены, примыкающем к бензоколонке. Он ходил туда каждую субботу с девушками, с которыми вместе рос. Но их красивые платья, их помада внезапно придали им новую уверенность, которая смущала его.
Когда де Глатиньи принял командование батальоном, Мансар был о нём невысокого мнения. Для бывшего токаря он был всего лишь аристократик, прибывший из сайгонского Генштаба. Теперь унтер-офицер с неуклюжим тактом пытался дать понять, что считает его за своего и гордится тем, что его капитан не склонил голову перед мелкими обезьянами.
Де Глатиньи перекатился в сторону Мансара, и его плечо коснулось плеча сержанта. Думая, что ему холодно, Мансар прижался к нему.
Глава вторая
Самокритика капитана Эсклавье
Растянувшись на рисовом поле, где грязь смешивалась с примятой стернёй, десять человек прижались друг к другу. Время от времени они засыпали, просыпались, вздрагивая от сырости, и снова погружались в кошмары.
Эсклавье держал лейтенанта Лескюра за брезентовый ремень. Лескюр был не в себе; он вполне способен был встать и пойти прямо вперёд, вопя: «Они атакуют, они атакуют! Пришлите цыплят… несколько уток!»[10] Он не подчинился бы требованию вьетминьского часового остановиться и был бы застрелен.
Но сейчас Лескюр был совершенно спокоен, только время от времени тихонько поскуливал, будто щенок.
Где-то в темноте можно было слышать как скользит на грязной дороге джип, его двигатель работал рывками, газуя и затихая. Он походил на муху, которая билась об оконные стёкла в закрытой комнате.
Двигатель заглох, но проснувшийся Эсклавье с надеждой ждал, когда снова раздастся знакомый шум.
— Ди-ди, ди-ди, мау-лен.
Приказ часового сопровождался парой лёгких и «снисходительных» ударов прикладом винтовки, которые привели в движение бесформенную массу пленных.
Но теперь голос обратился к ним по-французски:
— Подъём! Подымайтесь! Вы должны пойти и толкнуть джип Вьетнамской народной армии.
Тон был терпеливым, уверенным, что его послушают. Слова были отчётливы, а произношение удивительно и в то же время тревожно безупречно. Лакомб со вздохом поднялся на ноги, и остальные последовали его примеру. Эсклавье знал, что Лакомб всегда первым проявит послушание и рвение, что он подставит другую свою дряблую, по-детски розовую щёку, чтобы снискать расположение охранников. Он будет до такой степени образцовым пленным, что превратится в стукача. Он будет льстить вьетам, ради некоторых привилегий, но прежде всего потому, что удача была именно на их стороне, и потому, что он всегда подчинялся более сильным. Чтобы оправдаться в глазах товарищей, он попытается убедить их, что дурачит тюремщиков и извлекает выгоду для всех.
Эсклавье слишком хорошо знал этот тип людей по лагерю Маутхаузен. Там все узники, имевшие индивидуальность, точно погружались в некую ванну с негашёной известью, и всё, что оставалось — обнажало самое существенное. Затем этих упрощённых существ можно было отнести к одной из трёх категорий: рабы, дикие твари и те, кого Эсклавье с некоторой долей презрения называл «прекраснодушными». Сам Эсклавье был дикой тварью, потому что хотел выжить. Истинная личность Лакомба была рабом, «лакеем», который никогда не стал бы даже воровать у хозяина, никогда не сделал бы ставку на свободу. Но он носил форму капитана французской армии, и нужно было научить его, как себя вести, даже если это убьёт его.
Невысокая фигурка в пальмовом шлеме возвышалась над Эсклавье, и голос, звучавший бестелесно, благодаря своей точности, снова заставил обратить на себя внимание:
— Разве вы не собираетесь помогать своим товарищам толкать джип?
— Нет, — ответил Эсклавье.
— Как ваше имя?
— Капитан французской армии Филипп Эсклавье. А ваше?
— Я — офицер Народной армии. Почему вы отказываетесь выполнять мои приказы?
Это был не столько упрёк, сколько констатация необъяснимого факта. С кропотливой тщательностью добросовестного, но ограниченного в своих возможностях школьного учителя офицер Вьетминя пытался понять выходку большого ребёнка, лежащего у его ног. Этот метод был вдолблен в него в учебных заведениях коммунистического Китая. Сначала надо было проанализировать, затем объяснить и, наконец, убедить. Этот метод был непогрешим; он был неотъемлемой частью огромного совершенного целого, которое представлял собой коммунизм. Он удавался со всеми пленными Каобанга. Вьет склонился над Эсклавье и с оттенком снисходительности пояснил:
— Президент Хо Ши Мин отдал приказ Народной армии Вьетнама применять политику милосердия ко всем пленным, сбитым с пути империалистическими капиталистами…
Лескюр как будто бы начал просыпаться, и Эсклавье крепче ухватил его за ремень. Лейтенант не осознавал и, возможно, никогда не осознает, что французская армия потерпела поражение при Дьен-Бьен-Фу; если он проснётся внезапно, то может задушить вьетминьца.
Кан-бо[11] продолжал:
— С вами хорошо обращались и будут хорошо обращаться, но ваш долг — подчиняться приказам вьетнамского народа.
Кипя от возмущения, Эсклавье ответил резким, звонким голосом, пронизанным яростью, гневом и иронией, так, что услышали все:
— Мы живём в Демократической Республике Вьетнам всего несколько часов, но уже можем оценить вашу политику милосердия. Вместо того, чтобы достойно нас убить, вы позволяете нам умереть от истощения и холода. И вдобавок требуете, чтобы мы были полны признательности к старому доброму президенту Хо и Народной армии Вьетнама.
«Этот слабоумный ублюдок убьёт всех нас, — подумал Лакомб. — Было достаточно сложно убедить его сдаться, и теперь он начинает всё сначала. Но всё, о чём я прошу — понять эту их народную республику. Это единственный выход теперь, когда всё кончено, и мы ничего не можем с этим поделать».
Эсклавье на этом не остановился. На этот раз, к счастью, он говорил только за себя:
— Я отказываюсь толкать джип. Можете считать это моим личным выбором. Я предпочитаю быть убитым на месте, чем медленно умирать, унижая себя и, возможно, развращаясь в вашей ограниченной вселенной. Так что, пожалуйста, будьте так любезны — отдайте приказ немедленно прикончить