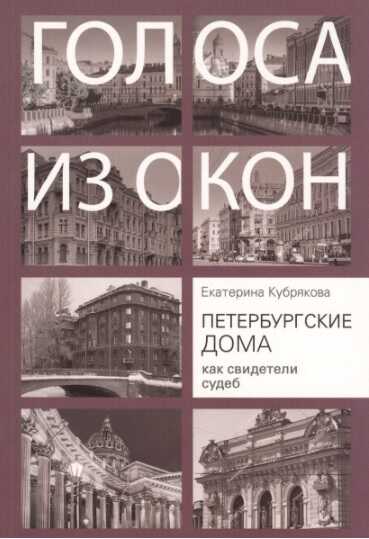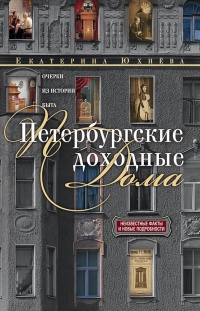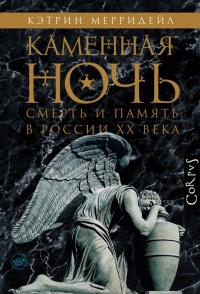эту мерзость протянутых ко мне рук и… ну, все говорить! горю странным огнем влюбленности в себя через него.
<…>
Если б я умела довольствоваться маленьким, коротеньким, так хорошо и легко бы жилось. Пусть демон хранит мое целомудрие, я люблю и позволяю себе ангельские приятные поцелуи…
После первого, полуслучайного поцелуя в дверях — я ужасно хорошо влюбилась. Было темно, я провожала его (Минского) в третьем часу. От него недурно пахло, духами и табаком. (Душится, говорят, mаuvаisgenre, но я люблю).
Скользнула щекой вниз по его лицу и встретилась с его нежными и молодыми губами.
Я дурно спала и улыбалась во сне.
<…>
Это — какая-то тяжесть, узы тела, на теле; какое-то мировое, вековое, унаследованное отстранение себя от тела, оцепенелость тела, несвобода движений. Во всем, часто, с другими — внутри возникает непосредственное движение, естественное — и внутри же замирает, не проявившись. Это, я думаю, у многих. Это, я думаю, от векового проклятия всей «грешной плоти» во всем» [30] …
За напряженным «тройственным союзом», помимо Дмитрия Мережковского, наблюдали критик Хаим Флексер, страстно влюбленный в Гиппиус, будущая жена Минского, двадцатисемилетняя поэтесса Людмила Вилькина, которой, впрочем, изредка пишет любовные письма Мережковский, и тетка Вилькиной, Венгерова, подруга Зины, тайно влюбленная в Минского (после смерти племянницы она все же стала его женой).
«Декадентская мадонна», как называли Гиппиус, жаловалась Венгеровой: «Подумайте только: и Флексер, и Минский, как бы и другие, не считают меня за человека, а только за женщину, доводят до разрыва потому, что я не хочу смотреть на них, как на мужчин, — и не нуждаются, конечно, во мне с умственной стороны столько, сколько я в них… Прихожу к печальному заключению, что я больше женщина, чем я думала, и больше дура, чем думают другие» [31].
Увы, в печали безумной я умираю, Я умираю. И жажду того, чего я не знаю, Не знаю. И это желание не знаю откуда, Пришло откуда, Но сердце просит и хочет чуда, Чуда! —
напевает неприступная Зина, раз из раза отказывая Николаю Минскому в близости. «Полюбите себя, как Бога, тогда вам не опасна ни любовь, ни самые мелкие страданья — все станет красотою» — слышит распаленный страстью поэт, удаляясь от объекта желания и встречая в дверях на Верейской молодую симпатичную горничную Мережковских Пашу…
Для Паши знакомство с другом семьи, регулярно заходившим в этот дом, станет роковым. Трагедия девушки, произошедшая в начале 1890 года на глазах изумленной Зинаиды, выльется в рассказ «Простая жизнь», который станет дебютом двадцатилетней Гиппиус в прозе.
Рассказ повествует о семнадцатилетней «казенной» сироте Паше (имена главных героев писательница менять не стала). Пройдя через годы унижений, работая то нянькой, то прислугой, Паша наконец нашла спокойное место в петербургской бельевой. Там ее и заприметила старая знакомая, ставшая настойчиво звать к себе пить чай. Жилец этой знакомой, немолодой, но кроткий и обходительный Николай, стал все чаще присоединяться к трапезе, а иногда и оставаться наедине с неопытной девушкой. Один из таких вечеров закончился для Паши несчастьем.
«Я села на диван. Принесли меду. Сначала я видела, как он тихонько улыбался, наливая себе стакан, потом сразу сделался серьезен, поднялся со своего места и сел рядом со мной. Я посмотрела на него: он был бледен, а в глазах его мне почудилось что-то злое и жестокое. Я испугалась и хотела встать, но он удержал.
— Полюбите меня!
— Послушайте, право, я удивляюсь: не глупый вы мужчина, и вдруг такие у вас ни к чему не нужные мысли. <…>
Он помолчал.
— Я слыхал, Прасковья Александровна, за вами артельщик один очень ухаживает?
— Правда, ухаживает. А вам-то что? За мной не один он ухаживает.
— Вот это-то мне и не нравится.
Николай крепко обнял меня. Я вскрикнула, хотела вырваться, но он держал меня и, наклонившись близко, произнес:
— Не кричи, все равно дверь заперта…
Помню одно, что после я, как безумная, выбежала оттуда на улицу» [32].
Паша из «Простой жизни» (как и Паша из квартиры на Верейской) забеременела. После первого отчаяния забрезжила надежда — а вдруг полюбит, вдруг женится? Николай и правда обещал все устроить, вот только работу найдет и материальное положение поправит. Через несколько месяцев жених, действительно, объявился, но просил он не руки беззащитной Паши, а расписку о том, что у нее к нему нет никаких претензий.
Николая ждала свадьба с зажиточной барышней, а появившегося вскоре на свет ребенка Паши — воспитательный дом, куда она обязана была сдать его на третий день после родов, чтобы продолжить работать: «Он точно все понимал, смотрит мне прямо в глаза, не плачет. <…> Я все вглядывалась в него, точно запомнить его хотела, все приметочки рассмотрела, волоски белые целую, сама плачу. Наконец благословила его, три раза перекрестила: Христос с тобой, детка, поезжай с Богом!» [33]
Несчастная девушка нашла место горничной у молодой и веселой барыни с длиной косой и ее «маленького, черноватого» мужа-поэта.
«Вставали поздно; напьются кофею — сейчас барин в свою комнату, двери кругом запрет и начнет наискось, от угла до угла, бегать, а сам громко ворчит и руками размахивает.
Нижние жильцы стали жаловаться, беспокойно им, спрашивают: болен у вас барин? А он поворчит-поворчит, в книжечке маленькой немного попишет и кличет барыню…
Придет барыня, сядет — и сейчас же он ей что-то выпевать начнет; мало понятно, гул один. Кончит — и спрашивает барыню: