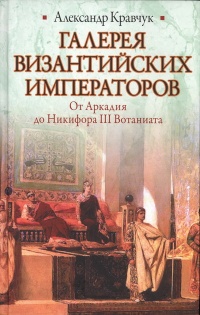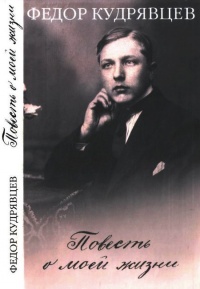ты учился?
— У Сорока мучеников, владыко.
Епископ кивнул, и взгляд его затуманился грустью. «Верно, тоскует по родине», — сочувственно подумал Всеволод.
Уже у себя в спальне, сидя на постели, он вновь перебрал в памяти разговоры минувшего дня. На сердце сделалось безотрадно и тревожно. Так тревожно бывает, когда переходишь реку по тонкому, молодому льду. Слышно, как лёд гнётся и дышит под ногой, а повернуть вспять ты уже опоздал. Вперёд, князь, и да поможет тебе вседержитель!
В подсвечниках-водолеях тихо потрескивали свечи; натаявшие сосульки воска изредка срывались вниз, и тогда рождался звук, похожий на далёкий всплеск весла.
Глава 6
Наутро Михаил и Всеволод увиделись со своими сыновцами. Встреча вышла не бог весть какой радостной. Облобызались, справились о здоровье друг друга и замолчали.
Оба Ростиславича были коренастые рыжеватые молодцы со степной раскосинкой в глазах — сказалась всё же кровь бабки-половчанки, первой супруги Юрия Владимировича. Племянникам перевалило уже за тридцать, и у старшего, Мстислава, волосы на темени успели изрядно поредеть с тех пор, как Всеволод видел его в последний раз при осаде Вышгорода. Ярополк выглядел намного моложе и крепче телом, но Всеволод знал за ним одну слабость, чуждую Мономашичам: он был труслив. А трусость, как известно, ищет подпоры в жестокости и коварстве. Власть в руках труса — страшное оружие, обращённое в первую голову против близких друзей и союзников.
Торжественный обряд крестоцелования состоялся в Преображенском соборе. От наплыва народа, казалось, вот-вот рухнут стены храма; в спёртом воздухе огни многочисленных свечей задыхались и глядели бельмами.
Четыре князя, четыре Мономашича, поклялись друг другу в искренности союза и коленопреклонённо целовали золотой крест из рук епископа Порфирия. Старшим был единодушно признан Михаил Юрьевич, ему отныне обещали Мстислав, Ярополк и Всеволод свою верность и сыновнее послушание. После чего епископ произнёс короткую наставительную речь.
— Бог — судья праведный и всякий день строго взыскующий, — начал он негромким, но внятным голосом. — Он воздаёт каждому по чистоте рук его: с милостивым он поступает милостиво, а любящего насилие ненавидит. Очи господа нашего испытывают сынов человеческих ежечасно, и кто роет яму ближнему своему — сам упадёт в неё. Но пуще всего, — тут епископ упёрся взором в Мономашичей, и голос его зазвенел, — пуще всего ненавистны господу клятвопреступники. Дождём прольёт он на вероломных горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер — их доля из чаши!
На семейном совете было решено, что вперёд поедут двое князей — Михаил и Ярополк.
При расставании Всеволод сказал брату:
— Возьми с собой Кузьму. Коли что приключится — дай знать через него. Человек он верный. Ох, Миша, не будет мне покоя, пока тебя опять не увижу. Лучше бы ехать вместе.
Михаил покачал головой:
— Нельзя. Неразумно закладывать сразу обе души. Мы ведь не знаем не ведаем, как обернётся дело. — И добавил по латыни, невесело усмехнувшись: — Timeo danaos et dona ferentes[14].
— Думаешь, Мстислав и Ярополк лукавят? — спросил Всеволод. — Но зачем?
— Они догадываются, что Святослав на нашей стороне... А знаешь почему?
— Знаю. Святославу нужно отослать нас в Залесье, чтобы легче было скинуть князей смоленских. У них на Киев прав меньше, чем у нас...
Всеволод проводил брата и племянника за черту города. Здесь и простились. Среди дружинников затерялся и мечник Кузьма Ратишич, одетый простым воином.
* * *
Уж закончилась жатва, и хлеборобы снесли в дома «зажинки» — именинные снопы, перевитые васильками, — и поставили их в красный угол под иконы.
Уж пролетела седым волосом и растворилась в глубоком небе осенняя паутина.
Уж отгремел последний гром, и на затонах Десны загомонили бесчисленные ватаги пролётной птицы.
А вестей от Михаила всё не было. Всеволоду наскучили пиры, на которые не скупился хлебосольный князь Святослав, надоели учёные беседы с епископом Порфирием, и он всё чаще стал пропадать за городом — охотиться либо ловить рыбу. Он не любил многолюдных выездов и брал с собой обычно только двух отроков — Воибора и Прокшу.
Однажды они ладили закол на безымянной лесной речке. Перегородили её, как положено, кольями, колья оплели ивовыми прутьями, оставив редкие проходы, а проходы закрыли мерёжами.
Прокша ушёл искать поляну для костра, но скоро вернулся. Вид у него был растерянный.
— Ты чего? — спросил Всеволод.
— Ч-ш, князь, — шёпотом ответил Прокша и оглянулся. — Там половчин могилу роет.
— Какую могилу? Для кого?
— Нашу могилу, русскую. На ней крест стоял, так он, злодей, его выдернул и стал копать.
Всеволод, как был босой и в одной рубахе, схватил копьё и, крадучись, пошёл за Прокшей. Половца они увидели из кустов шагов за двадцать. Тот усердно работал, разрывая могилу самодельной лопатой. Дело у него продвигалось споро, потому что могила была свежая и земля не успела слежаться. Крест, валявшийся рядом, ещё не потемнел от ветров и дождей.
Всеволод, стараясь ступать неслышно, подошёл к гробокопателю и негромко спросил по-половецки:
— Что ищешь, сосед?
Степняк выронил лопату и обернулся. Копьё упёрлось ему в грудь.
— Саблю, — сказал Всеволод.
Половец отстегнул кожаный пояс с ножнами и отбросил в сторону. Князь опустил копьё. Подошёл Воибор с одеждой в руках. Всеволод оболокся и вновь заговорил с половцем:
— Так зачем ты пожаловал, сосед? И где твой стан?
— Наш род кочует сейчас по реке Орели. А еду я в Чернигов к хану Кобяку. Отец его, хан Карлый, помирать собрался, велит сыну торопиться домой.
— А почто же ты зоришь могилу?
Половец смутился и опустил голову.
— Я не грабитель, — сказал он. — Мне не нужны украшения.
— А что тебе нужно?
— Меч. Я ехал и увидел могилу.
— Но меч ты мог бы купить в Чернигове.
Половец взглянул на Всеволода с недоумением и досадой.
— Разве ты не знаешь, — спросил он, — что чудодействен только тот меч, который держала рука русского воина? Хозяин такого меча становится сильнее впятеро.
Всеволод рассмеялся.
— Воибор, — позвал он. — Отдай этому человеку свой меч, а себе возьми его саблю.
— Зачем? Разве он мне побратим — оружием меняться?
— Делай, что велено.
Воибор обиделся, но ослушаться не посмел. Половец принял от него меч с низким поклоном. Когда он выпрямился, лицо у него светилось радостью.
— Я никогда не забуду твоего подарка, князь Са́валт.
— Ты