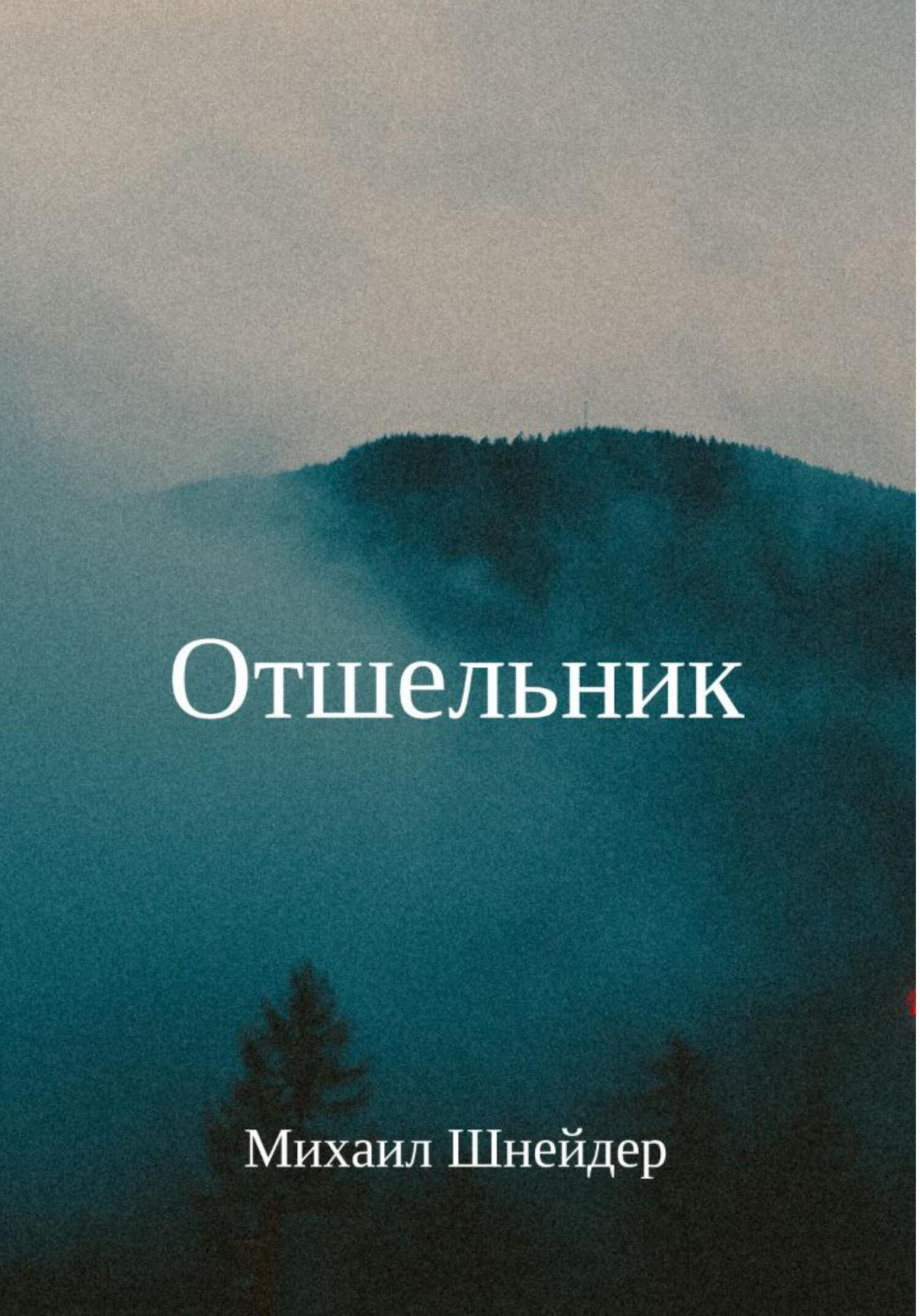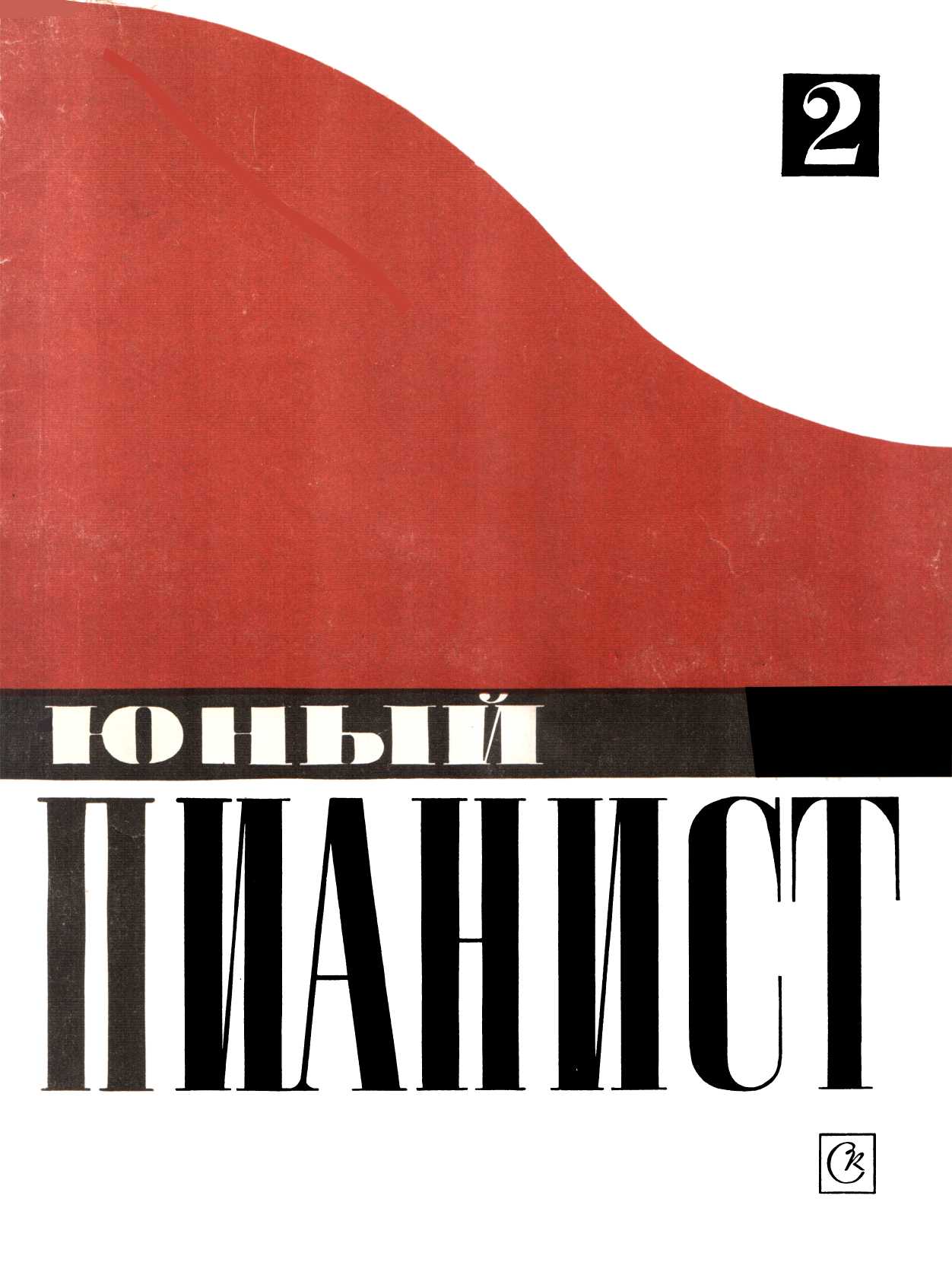въ какія-то темныя пространства и напоминали собою зѣвъ беззубыхъ стариковъ. Комната освѣщалась однимъ сальнымъ огаркомъ, торчавшимъ въ заплывшемъ мѣдномъ высокомъ подсвѣчникѣ. Простой столъ, три или четыре некрашенныхъ стула у низенькій шкафчикъ составляли всю мебель этой комнаты. Въ восточномъ углу красовался небольшой кивотъ, завѣшанный полинялой парчою.
У стола сидѣлъ нагнувшись старый еврей. Предъ нимъ лежала раскрытая книга громаднаго формата. При вступленіи нашемъ онъ медленно поднялъ голову и лѣниво повернулъ ее къ намъ. Съ робостью я поднялъ на него глаза. Лицо его сразу поразило меня. Имъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ бровей выглядывала пара сѣрыхъ глазъ. Почти все лицо утопало въ пушистыхъ длинныхъ пейсахъ и такой же широкой и длинной бородѣ. То, что осталось въ лицѣ непокрытымъ растительностью, отличалось какимъ-то пепельно-желтымъ цвѣтомъ. Плоскій лобъ быль изборожденъ безчисленнымъ множествомъ морщинъ. Полинявшая, засалившаяся плисовая ермолочка, сдвинутая на затылокъ, образовала какое-то жирное и грязное пятно на его плѣшивомъ, черепѣ.
— Ну, садясь, раби Зельманъ, гостемъ будешь, привѣтствовалъ онъ отца сиплымъ гортаннымъ голосомъ. — А это твой мальчуганъ? какой же онъ у тебя слабенькій… Чему его учили тамъ дома?
— Онъ знаетъ немного читать побиблейски, и больше ничего пока.
— Это очень мало, очень мало; придется сильно трудиться, мальчуганъ мой! У меня не лѣнись, баловать не люблю.
Я молчалъ, но рыданія подступили къ горлу. Я употребилъ, всю силу дѣтской воли, чтобы не разразиться ревомъ. Это, вѣроятно, и случилось бы, еслибы новая личность, шмыгнувшая сквозь одну изъ боковыхъ дверей, не отвлекла моего вниманія. На сцену явилась сгорбленная, сморщенная старуха низенькаго роста, съ лицомъ, напоминающемъ собою моченое яблоко, съ маленькими, черными, какъ бы колючими глазками, лишенными, всякаго слѣда рѣсницъ и съ носомъ хищной птицы самаго кровожаднаго свойства.
— Вотъ и ты, Зельманъ! ну, и слава Богу! затрещала старуха, самымъ непріятнымъ дискантомъ. — А я уже полагала, что вы раздумали привезти къ намъ сынишку.
— Почему же вы, тетушка, такъ думали? спросилъ отецъ.
— А Богъ васъ тамъ знаетъ! Твоя Ревекка такая модница, что и сына, пожалуй, считаетъ лишнимъ обучать?
— Вы напрасно нападаете на мою Ревекку, тетушка; она у меня большая умница.
— Ну, вѣдь я ее раньше твоего знаю. Она всегда любила засматриваться куда не слѣдуетъ, и судить о томъ, о чемъ набожная дѣвица и помыслить не посмѣла бы.
— Леа! обратился къ женѣ мой будущій учитель съ нѣмымъ упрекомъ во взорѣ.
— Чего тамъ Леа? я говорю что знаю, и ни предъ кѣмъ не стѣсняюсь. Я Зельмана въ первой разъ вижу, я скажу ему въ глаза, что удивляюсь брату Давиду, какъ онъ рѣшился отдать свою вѣтреницу Ревекку человѣку съ подобнымъ прошлымъ, какъ у Зельмана, и Богъ знаетъ, какого происхожденія.
— Леа! вскрикнулъ старикъ грознымъ голосомъ, подпрыгнувъ на стулѣ:— замолчитъ ли твой проклятый языкъ?
— Любезная тетушка, обратился къ ней отецъ, съ миролюбивой улыбкою на устахъ: — не будемъ ссориться при первомъ знакомствѣ.
Во время всей этой непріятной сцены, я какъ будто и не существовалъ на свѣтѣ; меня совершенно забыли. Наконецъ, злая старуха какъ бы нечаянно замѣтила меня.
— Ага! это твой сынъ? какой же онъ щедушннй! должно быть на пряникахъ выросъ! Знай я, что онъ такой болѣзненный, ни за что не рѣшилась бы навязать себѣ возню въ домѣ. Еще заболѣетъ, пожалуй умретъ, а я буду въ отвѣтѣ. Подойди-ка сюда, мальчуганъ, подозвала меня Леа самымъ повелительнымъ голосомъ.
Я неохотно и пугливо подошелъ къ ней. Она взяла своей морщинистой, сухою рукою мой подбородокъ, и грубо приподняла мою голову.
— Балованный ты? Га? скажи правду, мальчуганъ. У меня ни ни… сохрани тебя Богъ! я баловать не мастерица; у меня коротка расправа.
— Ну, полно балагурить, Леа, и запугивать ребенка; лучше дай поужинать гостямъ, да уложи ихъ спать; они устали, вѣроятно, съ дороги.
— Я гостей не ожидала, и ужинать нечего.
— Не безпокойтесь, тетушка, у насъ остались еще дорожные запасы. Хочешь ужинать, Сруликъ?
Я отказался отъ ужина. Мнѣ было не до него. Я допросился спать.
— Какой онъ у тебя капризный! затрещала опять старуха, мотая головой.
— Ну, если спать хочешь, такъ или въ эту дверь, тамъ найдешь большой сундукъ, а на немъ подушки. Тамъ и ложись.
Отецъ сострадательно посмотрѣлъ, всталъ и повелъ меня въ указанную кануру. Леа взяла со стола огарокъ, оставивъ мужа съ его громадною книгою въ потьхахъ, и посвѣтила. Отецъ самъ постлалъ мнѣ на сундукѣ, окованномъ желѣзомъ, и я улегся.
Какъ только отецъ, въ сопровожденіи старухи, вышелъ изъ моей импровизированной спальни, я уткнулъ голову въ единственную подушку, и горько заплакалъ.
Пріемъ, сдѣланный намъ, не предвѣщалъ ничего хорошаго. Жостко было спать, но усталость и нервное разслабленіе повергли меня въ тотъ глубокій, мертвенный сонъ, въ который погружаются дѣти, послѣ часоваго рыданія.
На другое утро, отецъ, сдавъ мои пожитки — ихъ было очень немного, — и снабдивъ меня нѣсколькими серебряными монетами, распрощался со мною необыкновенно нѣжно, и уѣхалъ. Я остался одинъ.
Съ того же дня, я началъ посѣщать хедеръ (школу), въ которомъ самовластно деспотствовалъ мой суровый опекунъ — учитель. Хедеръ помѣщался въ одной лачугѣ, нанятой дядей у бѣдной еврейки. Комната, въ которой мы занимались, была низенькая, мрачная, съ закоптившимися стѣнами, съ огромною печью и надпечникомъ. Надпечникъ этотъ служилъ намъ оазисомъ въ пустынѣ: туда мы всѣ скучивались въ сумерки, и предавались отдохновенію; тамъ съѣдались всѣ съѣстные припасы, приносимые каждымъ изъ насъ съ собою; тамъ разсказывались страшныя исторіи о мертвецахъ, о вѣдьмахъ; тамъ было очень весело. Какъ только зажигалась сальная, тощая копѣечная свѣчка, и свѣтъ разсѣевалъ мракъ надпечника, мы тотчасъ соскакивали внизъ; свѣча служила сигналомъ собираться вокругъ стола, и опять согнуться въ три погибели надъ учебниками, до поздней ночи. Это повторялось каждый день въ одинаковомъ порядкѣ. Это мертвящее однообразіе свинцовою тяжестью ложилось на душу, и никакого развлеченія, ни минуты отдыха, въ теченіе цѣлаго дня, а какъ пріятно было бы побѣгать, какъ хотѣлось выправить отекшіе члены!
Насъ, учениковъ, было человѣкъ пятнадцать. Всѣ мы болѣе или менѣе жили въ согласіи и дружбѣ. Хедеръ еврейскій — это необыкновенное училище, въ которомъ ученики всѣ. одинаково забиты, робки, пугливы, и всѣ одинаково придушены всесокрушающею силою учителя, расправляющагося со всѣми, по произволу, безъ всякаго лицепріятія. Между учениками хедера устанавливается извѣстнаго рода сочувствіе и симпатія, какъ между плѣнниками, попавшими въ одну и ту же неволю. Чѣмъ болѣе кто нибудь изъ учениковъ подвергается преслѣдованію злого меламеда (учителя), тѣмъ болѣе къ нему привязываются товарищи. Напротивъ, тотъ счастливецъ, который дѣлается любимцемъ учителя, и менѣе терпитъ отъ его жестокости, возбуждаетъ въ себѣ зависть, выражающуюся явною враждою своихъ