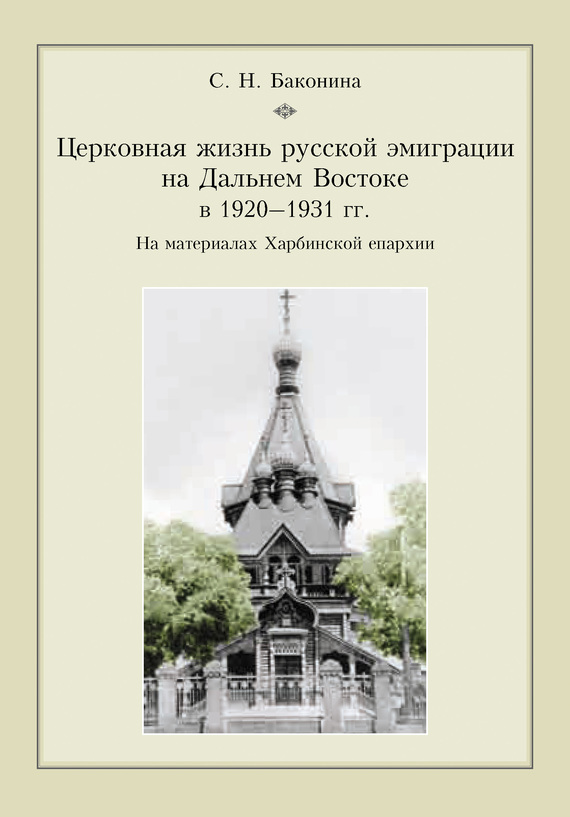семинарию в городе Орле. Семинарии появились в результате петровских реформ в начале XVIII века; однако ко времени Булгакова эти учебные заведения оказались сильно переполненными, так как сыновья священнослужителей не имели права менять сословие. На протяжении XVIII века духовенство превратилось из сословия чуть ли не в касту; свою роль в этом процессе сыграла и закрытая сфера семинарского образования. Реформы 1867 года были направлены на исправление печально известного неудовлетворительного состояния семинарского образования путем реорганизации управления этими учебными заведениями, с тем чтобы сократить число учащихся и, как следствие, покончить с перепроизводством священников. Ряд реформ, проведенных в 1830-е годы, был направлен на секуляризацию учебной программы; теперь, несмотря на сохранение латинского ядра, она была приближена к программе светской гимназии, чтобы преодолеть замкнутость церковного сословия и обеспечить возможность социальной мобильности. По сравнению с временами, когда в семинариях получали образование Чернышевский и Добролюбов, в 1860-е годы система духовного образования претерпела перестройку. Время учебы Булгакова в семинарии пришлось на период смены управления и учебной программы. Реформы 1867 года были полностью осуществлены только в 1879 году; обер-прокурор Дмитрий Толстой оценил их результаты оптимистично, но проблемы остались. В 1888 году Булгаков покинул семинарию, чтобы поступить в светскую гимназию: к этому времени он утратил личную веру, сравнивая это с опытом, побудившим Добролюбова написать следующие строки: «Гимнов божественных пение стройное – память минувшего будит во мне…. детскими чувствами вновь я горю, – но уста уже не шепчут моления, – но рукой я креста не творю»[45]. Его все больше и больше раздражало принужденное благочестие: бесконечные акафисты, ночные бдения, ритуальное благочестие больше не удовлетворяли его, и он перестал воспринимать их мистическую сторону. Позднее Булгаков объяснит свою утрату веры несоответствием «между тем образом религиозной жизни, как она определялась для меня тогда в мысли и культуре, и моими личными запросами, отречься от которых я не мог и не хотел, во имя правды, как я ее тогда понимал»[46].
С этого момента, по словам Булгакова, началось его превращение в интеллигента.
Здесь вступила в действие еще новая сила – интеллигентщина, – судьба и проклятие нашей родины, искушение от нигилизма, надолго оторвавшее меня от почвы. Естественно и почти без борьбы, потеряв религиозную веру, я сделался «интеллигентом» как в положительном, так и отрицательном смысле: интеллигентности в само собою разумеющимся соединении с нигилизмом[47].
Этому отказу от веры, которой его семья жила на протяжении трех столетий, и зарождающемуся нигилизму суждено было определить главное направление развития Булгакова в последующее десятилетие.
Здесь я сразу и всецело стал на сторону революции с ее борьбой против «царизма» и «самодержавия». Это явилось совершенно естественным, что с утратой религиозной веры идея священной царской власти с особым почитанием помазанника Божия для меня испарилась и, хуже того, получила отвратительный, невыносимый привкус казенщины, лицемерия, раболепства[48].
Впоследствии Булгаков говорил о случившемся с ним не как об утрате, но как о новом обращении в веру – о переходе «не от веры к неверию, но с одной своей веры к другой, чужой и пустой, но все-таки вере, имеющей для себя свои собственные святыни»[49].
Подобно Чернышевскому и Добролюбову, утратившим веру после прочтения Людвига Фейербаха, Булгаков утратил ее в сравнительно раннем возрасте. Главное отличие состоит в том, что, вопреки утверждениям правых политиков, число настоящих революционеров, вышедших из семинарий в 1860-е годы, было невелико. Булгаков следовал более распространенному образцу. В годы, последовавшие за реформами 1867 года, в церковных начальных школах возросло число учеников, бросавших учебу; в некоторых местах только 41 % поступивших завершали полный курс обучения. Отмечался и соответствующий рост числа бросивших семинарию, так как сближение образовательных программ облегчало переход в светскую школу. В то же время Булгаков, всегда подавлявший братьев своими выдающимися способностями, придерживался и другого аспекта общей тенденции: как писал архиепископ Савва, «все наиболее способные и одаренные ученики покинули семинарию до ее окончания», тогда как полный курс семинарии оканчивают «более слабые, менее способные ученики, составляющие основной контингент кандидатов в священнослужители». Кроме того, церковные чины жаловались на зараженность остающихся учеников новым мирским духом семинарии, где «все по запади, [ым] богословам учат», в результате чего «выходят молодые люди из семинарии неверами». Другие вторили этому обвинению: «Надеяться на прекращение исхода семинаристов в светские школы можно будет только тогда, когда обучение в семинарии будет нацелено на нравственное развитие (а не только академическое)»[50][51]. Безусловно, вероотступничество Булгакова было связано с внутренним кризисом, но в тот период такой кризис переживали многие. К 1870-м годам семинаристы составляли около 17 % арестованных за революционную деятельность и привлекали особое внимание Третьего отделения.
Это стало главнейшей из проблем, подтолкнувших Константина Победоносцева к тому, чтобы в 1880 году, сразу же после вступления в должность обер-прокурора, заняться контрреформированием семинарий. Он категорически возражал против программы обучения, утверждая, что ее «главной целью является открытость мирскому, а не богословская подготовка»11. Новая учебная программа ограничивала классическое обучение и дополнялась библейской историей, сравнительным богословием и изучением раскола; одновременно укреплялся авторитет архиереев и руководства школ. В некоторых случаях эти меры приводили к обратному эффекту: похоже, что, наблюдая, как тают возможности реформирования общества посредством церковного служения, некоторые священники действительно подталкивали своих сыновей на иную стезю. Нововведения застали Булгакова на втором году обучения, когда его вера уже начала ослабевать. В 1888 году он поступил в светскую гимназию в Ельце, чтобы подготовиться к поступлению на юридический факультет Московского университета, куда и был зачислен два года спустя.
В первые два десятилетия жизни Булгакова был заложен тот прочный фундамент, на который ему суждено было опереться после напряженного периода исканий 1900–1918 годов. В ранние годы выработались те черты Сергея Николаевича, которым на протяжении всей его жизни суждено было определять его интеллектуальную деятельность и личные поступки, даже при том, что сам он на словах отвергал значимость своего детства. Он совершенно спокойно изъяснялся на языке семинаристов с его цитатами из Священного Писания и назидательностью, а вернувшись впоследствии в лоно церкви, сумел избежать той театральности, в которую окрасил свое обращение в православие Мережковский. В церкви он чувствовал себя, как дома. В то же время детский и отроческий опыт Булгакова тесно совпадал с опытом его современников. В частности, он разделял с другими активными участниками культурной и интеллектуальной жизни начала XX века ощущение промежуточности своего социального положения и память о детстве, проведенном в русской глубинке. Наконец, его переход в то, что он потом называл