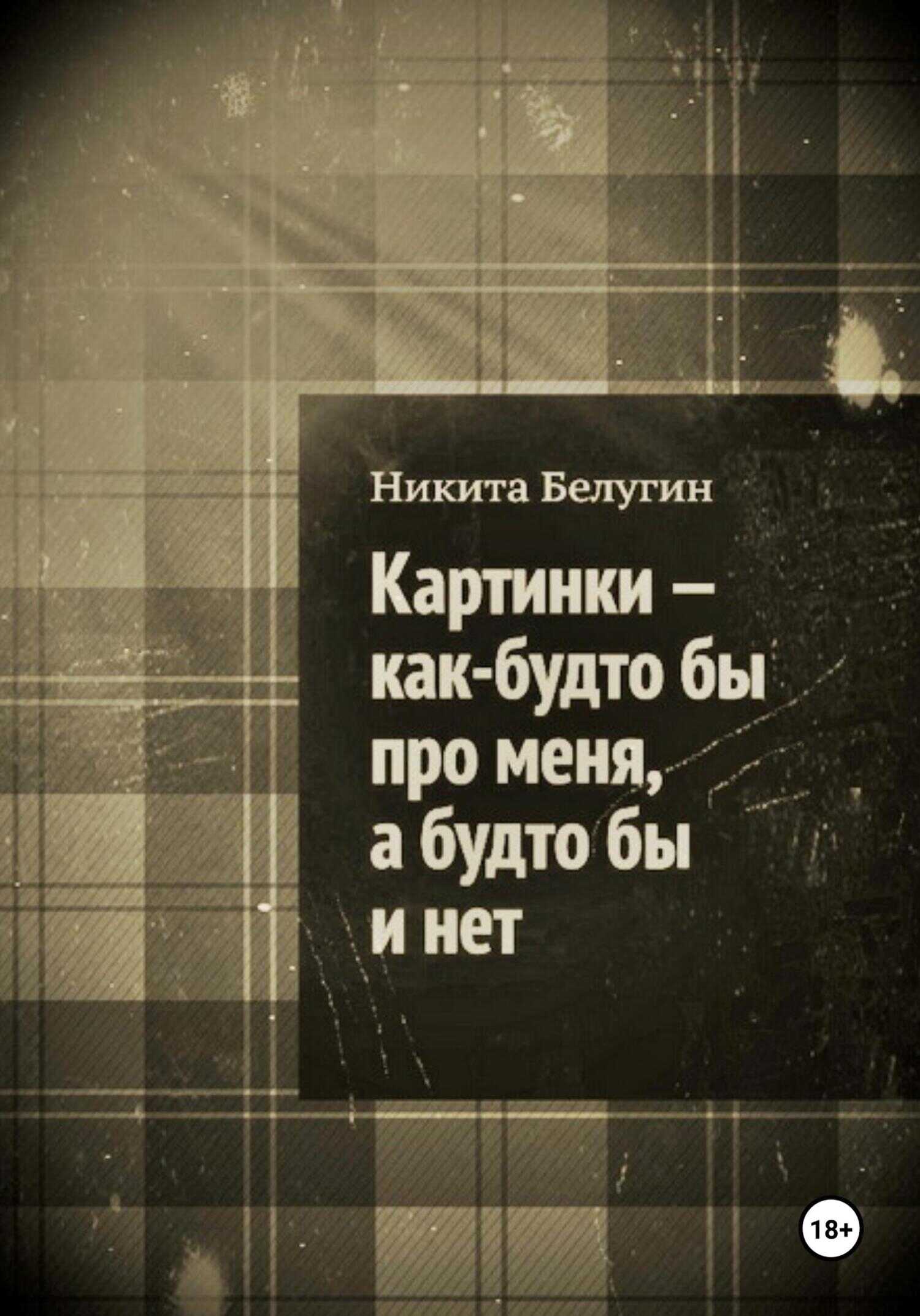Титовы
Семья
Семья
Мне нужно заснуть как можно быстрее. Ненавижу эти временные промежутки, когда в мою бессонную башку вползают чертовы вопросы и шевелятся червивым клубком: «Кто я? Зачем это все? Я неудачник? Что не так?» Упираюсь глазами в потолок, считаю вдохи и выдохи, сминаю подушку, но ничего не помогает. Несколько минут трачу на выбор и волоку себя в ванную. Привычным движением кисти правой руки провожу вверх — свет сужает зрачки. Моргаю — как всегда. Кран. Гул. Холодная вода. Наклоняюсь к зеркалу: красные — все обычно — белки глаз. «Ты кретин! Ты дебил!» — с собой я так неласково, но это надо сделать — нельзя держать злость в себе (читал где-то) — иначе инсульт в 30 лет. И не страшно, если это конец, страшно — если нет. Сажусь на край ванной. Холодный бортик быстро набирает себе моего тепла.
Вода в ванной доползла до моей руки. Вздрагиваю — почти заснул, но не там. Перемещаюсь с бортика в податливую теплоту. Закидываю левую руку за голову и, раздвинув полупустые флаконы, привычным движением сжимаю отполированный шарик ручки штихеля. Несколько минут смотрю на жало — так положено — впиваю себе в безымянный палец и отдергиваю. Ягода смородины от укола — иллюзорный урожай. Опускаю руку в воду — красный туман мгновенно рассеял чары. Поднимаю руку, кладу палец в рот. Каждое движение выверенно сотней повторений, нет суеты, нет беспорядка, жизнь вытекает в привычном темпе и в привычном направлении. Это ли не успокаивает? Во рту вкус железа: я жертва, но я же и хищник. Цикличная мысль забавляет, заставляя губы подрагивать в усмешке. Хищник, волк, волк-одиночка. Стоп! Уже не так весело. Смирись уже: семья — самое большое заблуждение человечества, мистификация лживей подарка от Санты, популярней сказок о загробной жизни, желанней личной свободы. И в основе всего этого нелепого розыгрыша стремление быть для кого-то ценным, важным, любимым, для кого-то еще, не для себя. Эй, люди, да наплевать на других, если эти другие перестают быть полезными здесь и сейчас. Не вырезать теперь уж Евы из родного упругого ребра: в насущном мире все мы живем как прах.
Шнурок с ключом от прошлого, куда я запечатал вход, намок и натирает шею. Железка елозит по груди, пробуждая навязчивые воспоминания. Десять шагов вверх, поворот, щелчок, скрип, привет, мам, опять ты на полу, не ты, конечно, а твое тело — все что от тебя осталось. Торопливо подбегаю, заглядываю в глаза — холодные синие льдины — Кай в отчаянье, и тысячи Герд не помогут. Жива? Возвращайся, молю. На кухне уже ворочаются твои прирученные животные — сосед из сто второй, бывший коллега с последней работы, профессиональный нищий из подземного перехода через две улицы и папин сослуживец с чужими орденами. Бычки расползлись по квартире, то тут, то там оставляя черные отметины на линолеуме, бутылки, преклонив узкие горлышки перед мощью людской жажды, давно пребывают в ожидании короткой прогулки до местного пункта приема стеклотары. Их многоразовые опустошенные граненные собратья все еще стоят в предвкушении новой порции эликсира жизни. В луче, сумевшем пробиться сквозь грязное стекло, золотится безмятежная пыль, но эта красота отравлена вонью мочи, пота и рвоты — так пахнет родимая типовая нищета.
Все повторяется с пугающим постоянством: все те же шаги, все тот же скрип, все та же мать на полу из рубрики «найдите десять отличий». Память услужливо склеивает фото воспоминаний в один ролик со странным вогом в исполнении кривляющейся белокурой танцовщицы в окружении продавленного дивана, засаленных обоев с увядающими коричнево-белыми цветами, надорванных коробок. Оскалившихся консервных банок, стекольных лепестков, окурков и скомканных пачек с мертворождением и парадонтозом, стаканов, засаленных газет с сальными статьями, чьих — то знакомых и незнакомых тел, замотанных изолентой проводов, поношенных пальто и стоптанных ботинок: ожившие снимки — навсегда поблекшие люди. Продано и пропито было все ценное, до чего дотянулась хваткая рука служителей Бахуса, не осталось ничего свято чтимого, кроме живой воды из емкостей по 0,5 и 0,7. Я сам чуть не попался однажды, вернувшись из школы чуть раньше окончания веселья: ты, мама, решила, что сын — достойный обмен на пару бутылок водки, и меня потащил за капюшон из квартиры новый случайный, а потому все еще при деньгах, знакомый, не благоговеющий перед спиртным, но излучающий непомерную любовь к детям. Я трепыхался под одобрительные выкрики твоих собутыльников и твое хриплое бормотание «тебе же будет лучше, тебе же будет лучше». Выскользнув из куртки, бросился к ощетинившемуся корявыми ветвями парку и бродил там до темноты, а когда вернулся, вытирал твои пьяные слезы под прерываемую икотой сердечную речь о материнских чувствах. Эти хмельные признания в любви держали меня, как поводок, за который ты дергала, мама, с ужасающим безразличием. Только со временем я понял: любовь ребенка безусловна, реальна и, увы, слепа, любовь к ребенку — едва ли.
Мой дом давно превратился в закрытую территорию, скрывающую стыдную болезнь: было унизительно и неловко, когда пришедшие вдруг друзья с упорным любопытством пытались заглянуть в щель приоткрытой двери, когда учителя надменно отчитывали за порванный рукав или свежие синяки и ссадины. «Все хорошо, все в порядке», — голос звучит спокойно, взгляд тверд, чувство вины за то, что ты — жертва скандалов, побоев и драк, оставляющих снаружи фиолетовые отметины, запрятано глубоко внутри — подальше от чужих пытливых глаз. В конце концов я преуспел в обмане так, что сам поверил — могу стать актером, чтобы уже в полную силу прочувствовать, каково это прожить чужую жизнь, чтобы понять, как это — быть другим, потому что быть собой отвратительно, чтобы с еще более уверенным видом повторять: «Все в порядке, все хорошо». Однако вместо художественной декламации, исторических костюмов с белоснежными жабо, повелительных «представьте, что вы — неодушевленный предмет» и «лра, лря, лру, лрю», произносимых на выдохе, усилившийся от тяжкой жизни с недостатком закуски, в которую мгновенно превращались все вносимые в дом продукты, твой вой, мама, погнал меня на простую человеческую работу, как только мне в руки впихнули паспорт. Настало время поменяться ролями: теперь ты — капризный ребенок, я — добытчик. Что ж, по крайней мере, трудоголизм — приемлемая обществом форма аддикции.
Взросление сопровождалось давящим поиском одобрения. Я жаждал привязаться хоть к кому-нибудь и попался бездушной дрессировщице. Она то звала к себе, и я