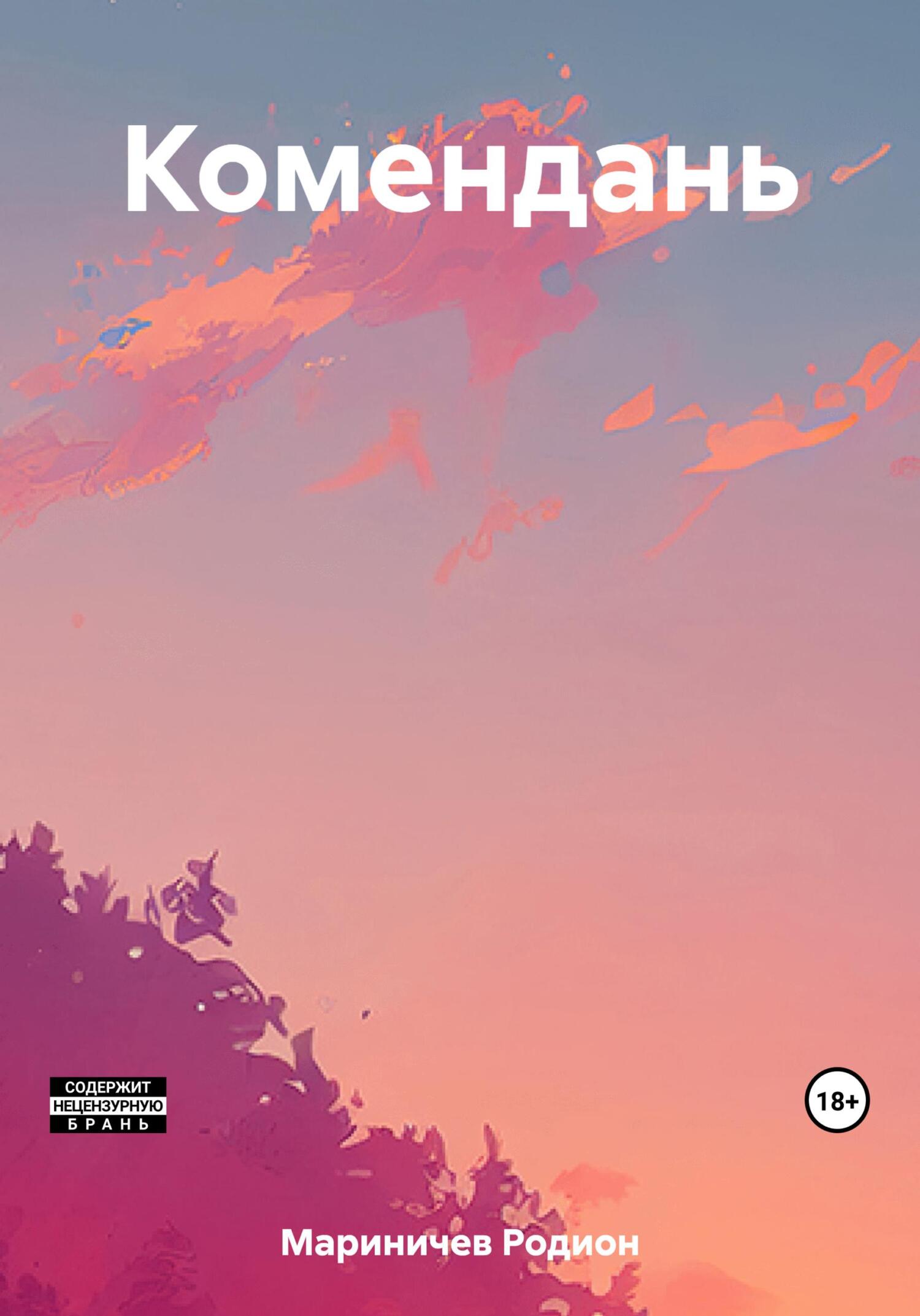Книга Однажды в январе - Альберт Мальц

- Жанр: Книги / Военные
- Автор: Альберт Мальц
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ — ALBERT MALTZ (род. в 1908 г.) Американский романист, новеллист, драматург. Сборник его новелл «Такова жизнь» («The Way Things Аге», 1938) был удостоен премии О. Генри. Автор романов «Глубинный источник» («The Underground Stream», 1940; русский перевод— 1949), «Крест и стрела» («The Cross and the Arrow», 1944; русский перевод—1961), «Путешествие Саймона Маккивера» («The Journey of Simon McKeever», 1949), «Длинный день в короткой жизни» («А Long Day in a Short Life», 1957; русский перевод— 1958). Ему принадлежит также сборник эссе «Писатель-гражданин. В защиту американской культуры» («The Citizen-Writer. Essays in Defence of American Culture», 1950). Многие рассказы А. Мальца публиковались по-русски отдельными изданиями и в периодике, в том числе в «Иностранной литературе». Перевод повести «Однажды в январе» выполнен по изданию книги, вышедшей в 1966 г. («А Tale of One January». London, Calder and Boyars).Повесть «Однажды в январе», которая не была опубликована в США, рассказывает о побеге заключенных из Освенцима. МИТИНА СУЛАМИФЬ ОСКАРОВНА Советский переводчик с английского. В ее переводе выходили книги Трумэна Капоте «Голоса травы», Теннесси Уильямса «Римская весна миссис Стоун», роман Памелы Хэнсфорд Джонсон «Особый дар» («ИЛ». 1979, № 1—2), сборник рассказов Шона О’ Кейси «Под цветной шапкой», рассказы Грэма Грина, Дж. Сэлинджера и работы многих других англоязычных авторов.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Однажды в январе - Альберт Мальц», после закрытия браузера.