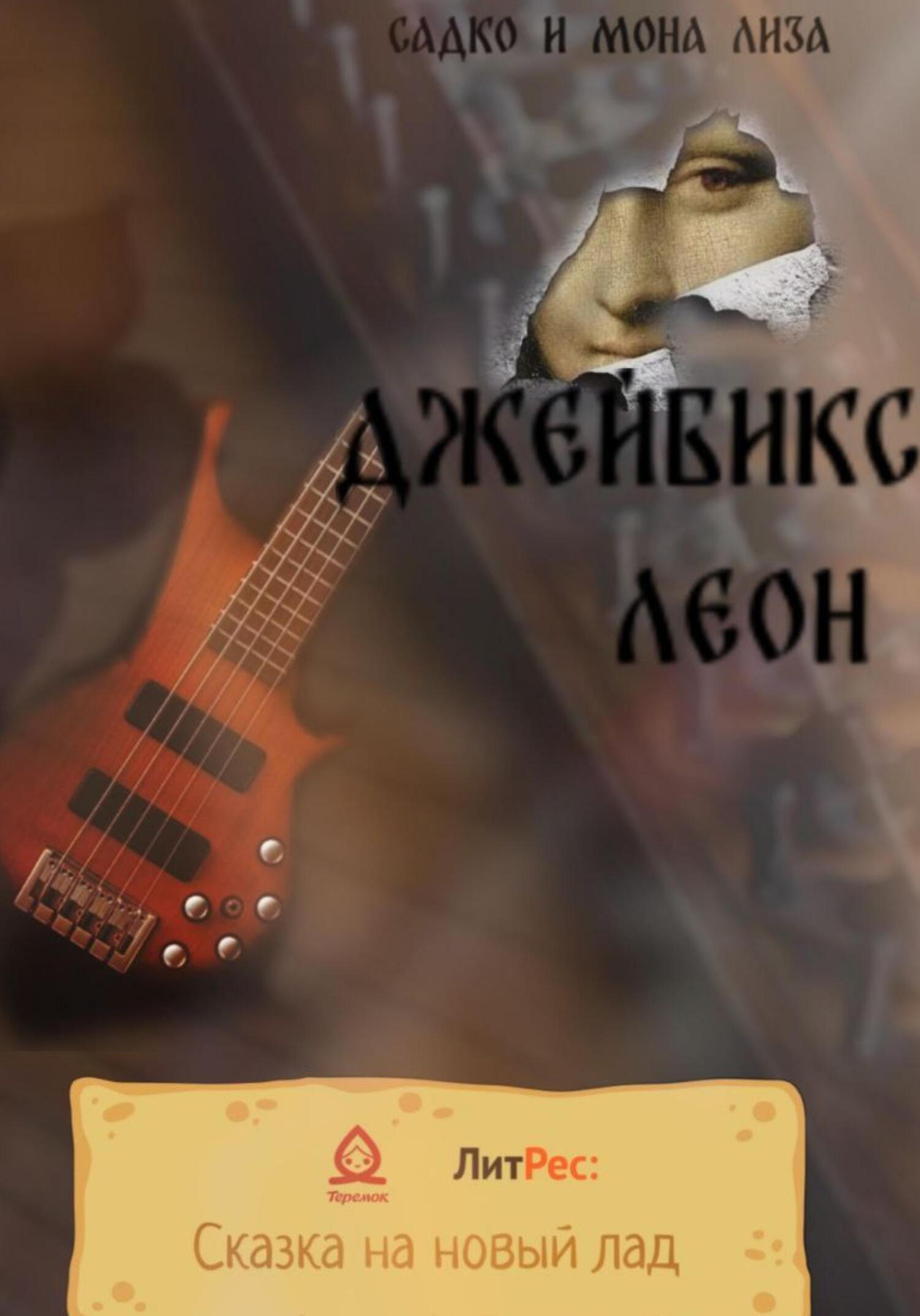Леон Богданов
Заметки о чаепитии и землетрясениях. Избранная проза
Портрет Л. Богданова работы Г. Неменовой. Литография. 1960-е.
Из собрания К. Козырева.
А. Драгомощенко
Блеск
Минуло лето в сухом саду, с его цветением денег. Осеннее пальто заслоняет большую часть сухого сада. Нам просто не видно, что там еще высохло или увяло, или опало. Что все лето и весну падало, то сейчас опадает. Все чаще плесневеет чай, оставляемый на два-три дня. Осыпается побелка, даже кусками отваливается штукатурка. На полу грязь – осенняя, подразумевается. Вечная, сказать проще. И сейчас светит солнце – последнее, сентябрьское, что же изменилось по сравнению с весной? Весной его брызги долетали и сюда. Сейчас только тепло доходит до меня.
Леон Богданов
Я видел Л. Богданова один-единственный раз. Не спорю, кто-то может утверждать, что это был ноябрь. В самом деле, был месяц, не исключавший возможности иного года, – это было так, как действительно трудно вспомнить. Тень на лице. Летательные аппараты, канаты, акробаты, публика, тающая от сознания собственной причастности к тому, что никогда не существовало (о чем впоследствии будет скрупулезно повествовать в возможных изданиях, доказывая обратное).
Да, говорю я, никто про Леона Богданова не напишет. Никто этого не сделает даже потому, что не успеет понять, как «уложить» себя в гипсовую марлю приближения к черте, пред которой он не хотел вообще существовать, так как был дан условием в имени.
Для собственного спасения: он прибывал в исчезновении. За это меня прибьют камнями. Скажут: он всегда хотел быть, – и не доказательством ли то, что терялся на горизонте письма, под стать кролику в шляпе факира?
Он исчез задолго до факира и шляпы в сухом японском саду на подоконнике. Главным и наиболее грозным растением того сада был ветер в балконной двери.
Далее – «Козырев» (plural), – также и астроном. По-иному понимавший «время»: про-вращение, волчок, лунные landscapes. Лед – тоже форма волны. Тогда мы с Зиной играли в теннис с Сашей Козыревым, а он, также «занимаясь временем», как и все Козыревы, – то есть плазмой, – после всего, когда льет пот, случалось, говорил…
Мне все равно, кто и что говорил. Главное – успеть. Did I? Я думаю о другом, о том, как время определено в «системе» отнюдь не европейской, – с усердным постоянством создающей нескончаемые тетради в клетку, книги про то, как надо понимать что было, вольеры для уродов и бороды для ученых. И даже не о том, что лежит фигурой сыра на дне фьордов. А что, собственно, было? Ничего. «Где же искать грань между ценным и ничтожным, большим и малым – вне вещей или внутри их?» – спросил Хэбо. Я намерен сказать о времени Леона Богданова, который никогда, в силу простого величия, об этом не обмолвился. Докажи обратное.
Leon Bogdanov возник тогда, когда я меньше всего думал, что он вообще существует. Что означает: сегодня в Скандинавии, в стране, прянувшей из бездонных цветных карт и где «висельник» и «мама» совпадают в квадрате трансатлантической прорехи, я к нему возвращаюсь.
Это – как идти против ветра. Где он возникает наподобие неправильно сшитой орфографии французской словесности (и вот тут-то я попрошу не спешить), и что отнюдь не есть скрытое заимствование из Берроуза о Боулзе, но относится к баснословной поре, когда все, кроме нас, думали, что писать означает если не открывать тайну, то, в худшем случае, говорить о том, что она неизбежна. Чему, вероятно, оставалась привычка к тому, что есть «враг», «другой» или книга в клетку, или история, или есть – «Бог».
Привычек, писал Богданов, нет. Бог не привычка. Это потому как это – есть «это». Он писал: «сейчас только тепло доходит до меня». Его восхитительно-медленная ярость (лед волны) заключалась в том, чтобы не сказать, но дать сказать – «rose is rose». Но и это неправильно. Никакой не Розанов. Куда тому, в чугунных валенках по горло, – и не снилось. Вот почему сотню лет назад я едва ли не околел от стихотворения Лены Фанайловой про зиму в автобусе, – все же как научиться не распускать нити, слюни, руки… воображение? Никакой не Беккет, Музиль, никакой не Кэнко Хоси, etc. Никакой. Вот что главное. Карту он смотрел на просвет, на воск, на крыло – поэтому и замок, и деревня, и сторожа, включая «врата», лишь пункты перемещения зрачка. Поэтому критику он не нужен.
Я же здесь чистой функцией; типа путником на северном краю олеографии. Без пальмы, лермонтова и выгоды, но с сигаретой. Идущий отовсюду. Идущий, как в учебнике арифметики идет наука воды и ржавчины. Почти теперь. Что означает также: не-существование станции. Прочти Леона Богданова и напиши предисловие.
Или, лучше, напишите, как писал Богданов. Что смехотворно просто. Слова и некоторая очередность, ну… возможно, чуть терпения. Я же пытаюсь всего лишь сделать так, как то делал Л.Б.
Чтобы увидеть свет в определенном прикосновении зрения, нужно отвращать его к противоположному по оси месту. Тут никакого терпения не достанет. Чтобы стало понятней, прибегнем к примеру из ни к чему не обязывающей словесности. Назовем имена Пушкина. Некоторые с другой буквы. Некоторые известны народу. И без сожаления в отсутствие их/его.
Почти весь Клее – бесшумное путешествие к «янтрам». К обратной точке зрения. Лезвие – не что иное, как процесс сведения к ничто некоего материального тела, или, как говорят друзья, – «hile». Но восхождение оказывается последним актом кукольного театра. Дальше пробегает обыкновенное лезвие, средоточие которого – блеск, «из которого были созданы все творческие выражения путем расширения точки таинственной яркости».
Стало быть, совершенство есть не то, что оседает в памяти или же ее создает, но то, что лишает память ее же самой, то есть свершения, то есть «истории».
Я не знаю, когда Леон Богданов родился, когда умер и кто теперь собирает его сады. Говоря по-иному, однажды он дал возможность взглянуть
– не как на пейзаж, исчезающий в заднем стекле машины, тем, кого не устраивало подобное строение картины.
Главным и наиболее грозным растением в его сухом саду, повторяю, был ветер, пойманный балконной