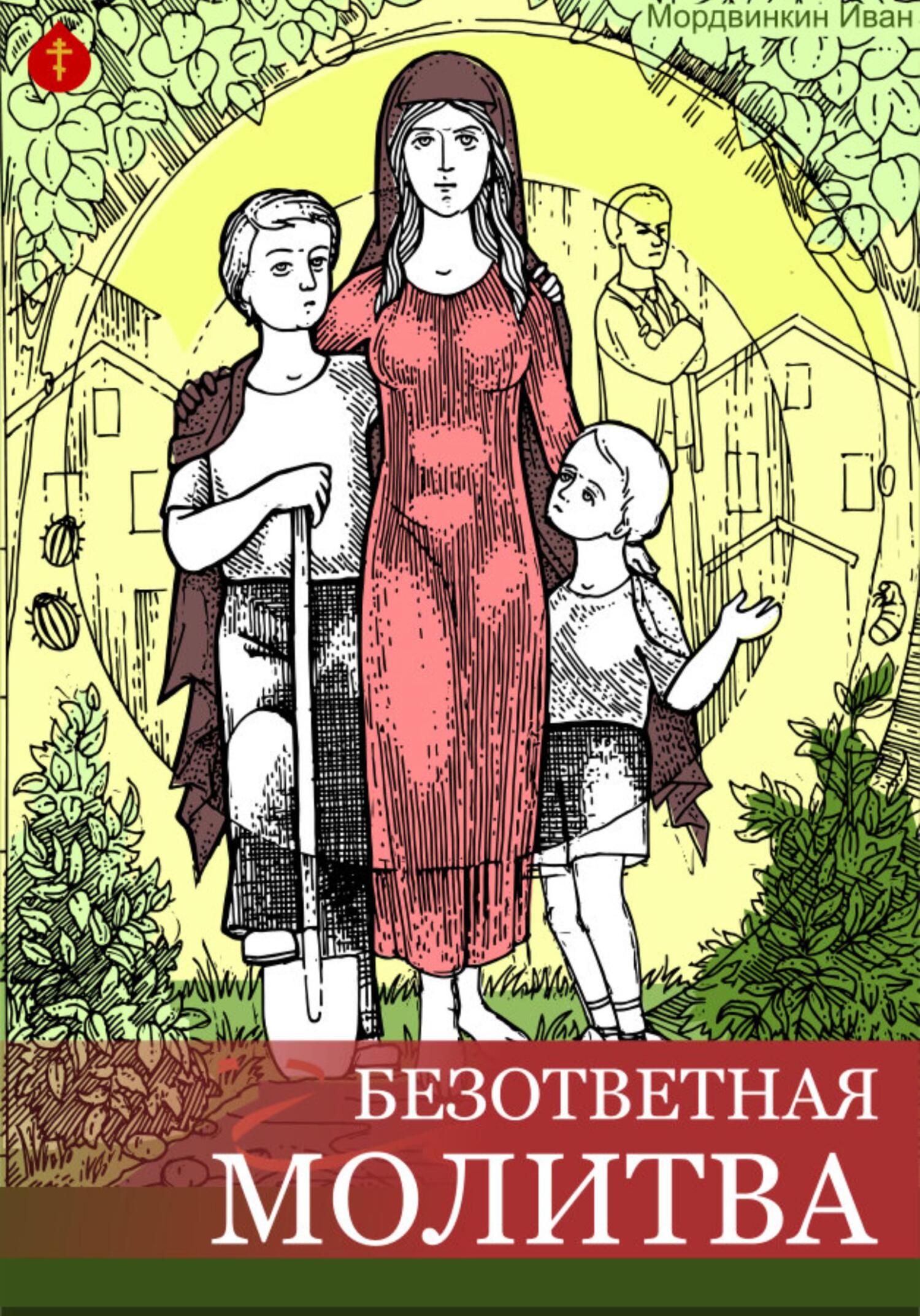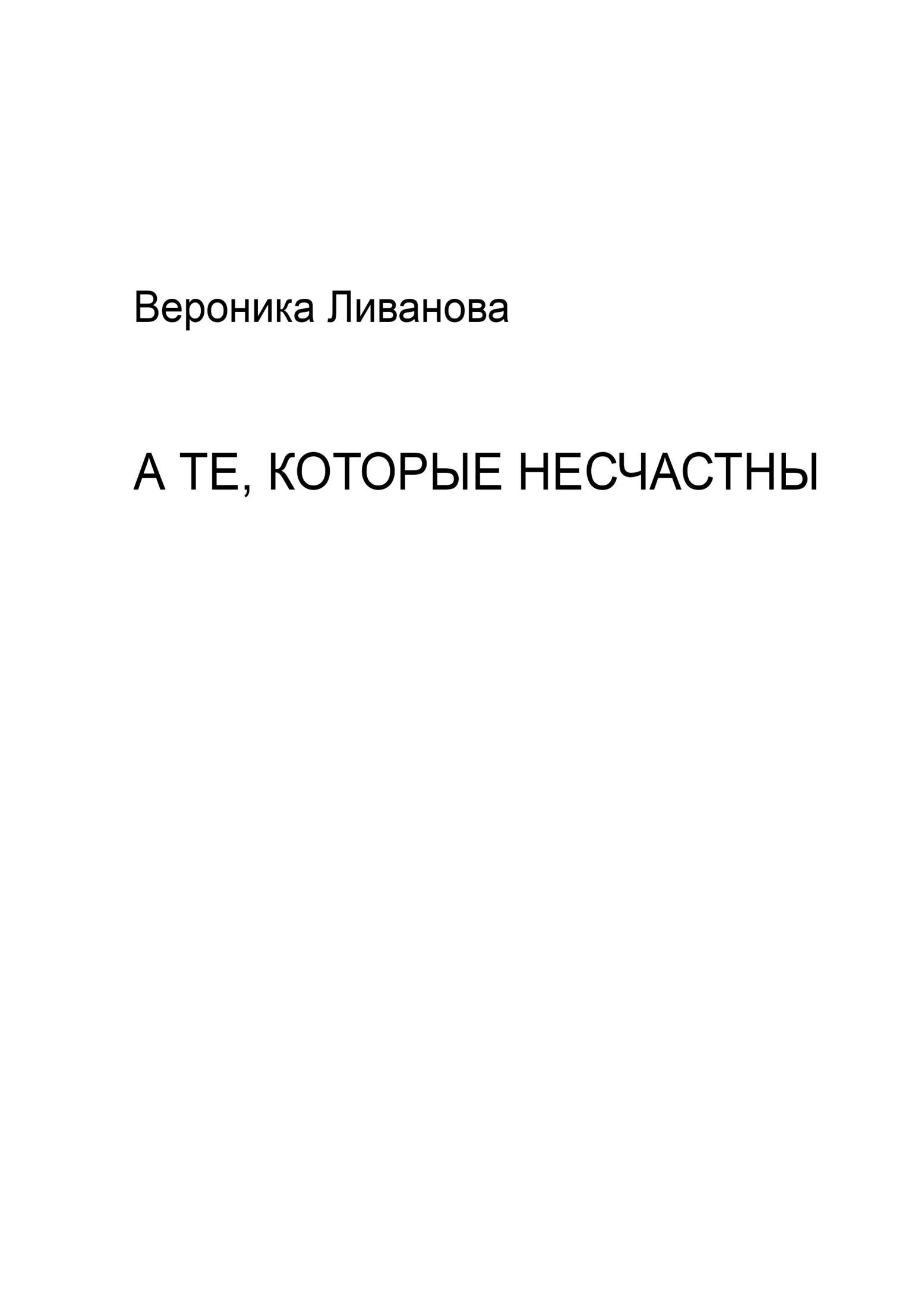Книга Железные Лавры - Сергей Анатольевич Смирнов

- Жанр: Книги / Разная литература
- Автор: Сергей Анатольевич Смирнов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эта необычная по сюжету и форме изложения история, созданная в стилистике МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА, переносит читателя в первые годы IX века, когда решалась судьба Европы. Герой романа - послушник одного из константинопольских монастырей, посланный настоятелем в Италию. Удивительное течение судьбы сталкивает послушника и его неожиданных спутников - датского ярла и кельтского бродячего певца-барда - с сильными мира сего, Карлом Великим и византийской императрицей Ириной, а затем и вовсе уносит на далекий север, в Гардарику, в новгородские земли. Как в человеческой жизни совмещаются Промысл Божий с Божиим попущением - этот вопрос и становится главным для героя романа, ставшего свидетелем ключевых событий того века. (Роман выходил в издательстве "Русская фактория" в 2017 году)
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Железные Лавры - Сергей Анатольевич Смирнов», после закрытия браузера.