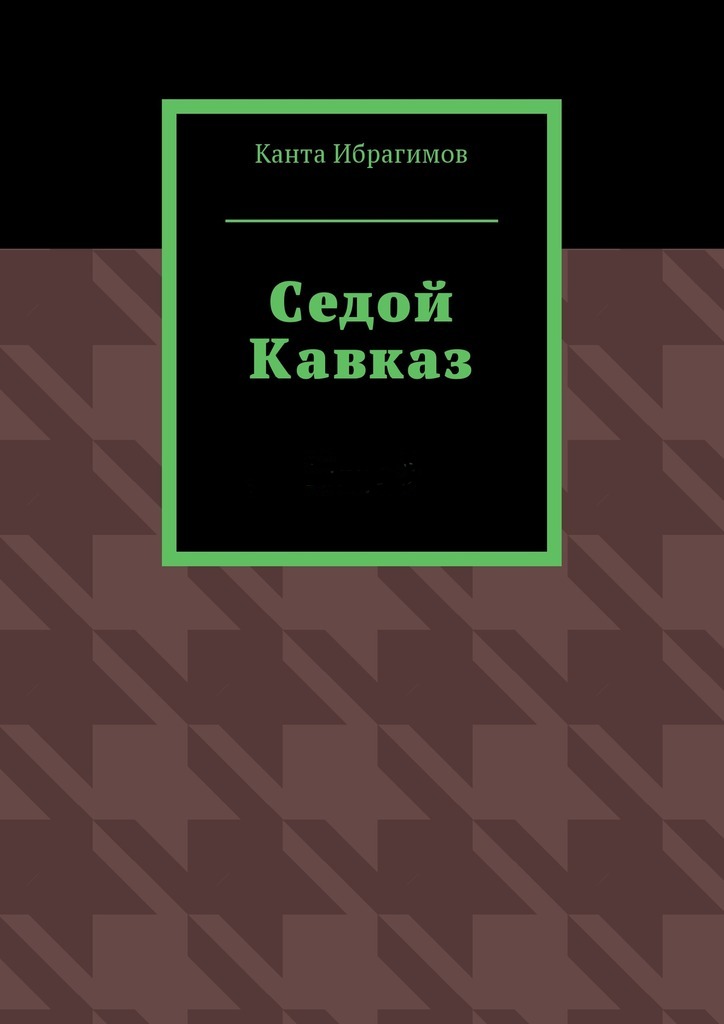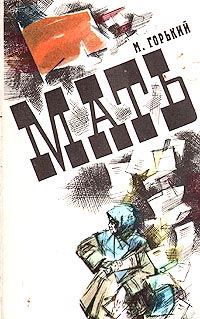Книга Сретенские ворота - Юрий Яковлевич Яковлев

- Жанр: Книги / Классика
- Автор: Юрий Яковлевич Яковлев
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
В этой книге собраны рассказы о первой любви, о встрече с чувством, которое делает весь мир иным — прекрасным и сложным. Вы познакомитесь и с удивительной девчонкой Таней Вьюник, «рыжей командой», и с неразговорчивым «погонщиком слона», пронесшим свое первое чувство через всю жизнь, с двумя молодыми солдатами, с болгарской девушкой Росицей, погибшей в бою за свободу своей родины, до последнего дыхания верной своей любви.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Сретенские ворота - Юрий Яковлевич Яковлев», после закрытия браузера.