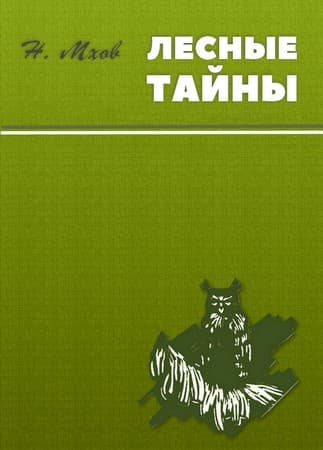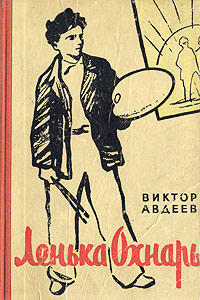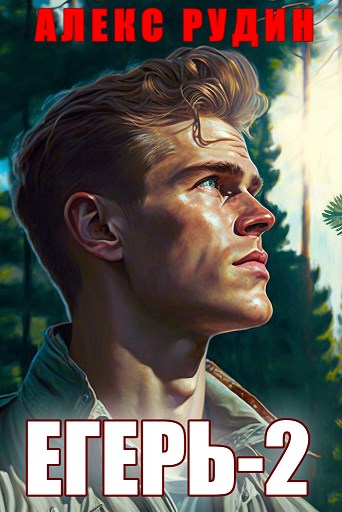Книга Ленька-егерь - Николай Михайлович Мхов

- Жанр: Приключение / Классика
- Автор: Николай Михайлович Мхов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
«…Перебирая в памяти жизнь моего юного друга, я прихожу к выводу, что именно с того момента, когда его детское плечо впервые перехлестнул ремень патронташа и на тонкий свист Марго послушно подбежала к нему, он стал охотником, или, как объяснял позже его отец, „охотничья зараза вошла в его сердце“».
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Ленька-егерь - Николай Михайлович Мхов», после закрытия браузера.