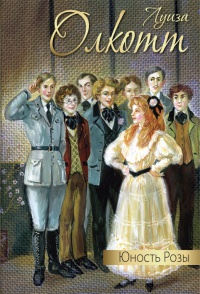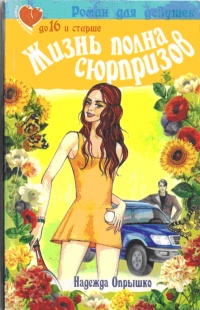Книга Первая бессонница - Владимир Ильич Амлинский

- Жанр: Книги / Детская проза
- Автор: Владимир Ильич Амлинский
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эта книга о юности… Юность вмещает в себя почти все, что вмещает человеческая жизнь вообще: любовь, разлуку, поиск цели и дела, увлечения и разочарования, смятение и счастье… Но юность открывает это, остальная жизнь повторяет, шлифует, уточняет, изменяет. Юность непроизвольно таит в себе удивительную яростную силу: силу первооткрытия. Мир предстает перед юностью вновь — и краски мира ярки и по-утреннему не размыты. В этой книжке говорится о том, что навеки связано с юностью, о том, что старо и ново, как сама жизнь: о первой любви, первой беде, первом подвиге и первой попытке осмыслить свое существо и смысл своего настоящего и будущего. Юность, как и все прекрасное в мире, не длительна. Она обрывается почти незримо, и ты сам уже не заметил, что скопил и несешь своеобразный груз, который скучно называется «жизненный опыт». И ты строишь свою судьбу или взламываешь ее, если она сложилась не так, уже наделенный человеческим опытом: опытом не только лишь поступков, но и размышлений, опытом жизни и мысли. К тебе приходит первая бессонница, а утром ты встаешь и продолжаешь жизнь, идешь из рассветной страны Юности в другую, более суровую и обширную страну, что называется Зрелость.
В эту книгу вошли рассказы, написанные мною давно и, может быть, уже известные вам, и другие, написанные много позже. Владимир Амлинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Первая бессонница - Владимир Ильич Амлинский», после закрытия браузера.