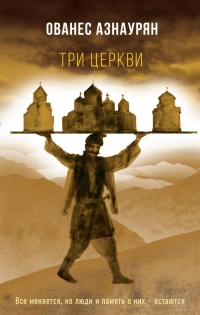Из соседней комнаты сквозь шум ссоры прорывается высокий голос Менша и низкий – де Фокса. Я выглядываю за порог. Менш стоит перед бледным и потным де Фокса. У обоих в руках бокалы, у окружающих их офицеров – тоже.
Генерал Менш говорит:
– Выпьем за здоровье сражающихся за свободу Европы. Выпьем за Германию, Италию, Финляндию, Румынию, Венгрию…
– …Хорватию, Болгарию, Словакию… – подсказывают остальные.
– …Хорватию, Болгарию, Словакию… – повторяет Менш.
– …Японию…
– …Японию… – поторяет Менш.
– …Испанию… – говорит граф де Фокса, посол Испании в Финляндии.
– Нет, за Испанию – нет! – кричит Менш.
Де Фокса медленно опускает бокал. Его лоб блестит от пота.
– …Испанию… – повторяет де Фокса.
– Nein, nein, Spanien, nicht! – кричит генерал Менш.
– Испанская «Голубая дивизия», – говорит де Фокса, – сражается на Ленинградском фронте вместе с немецкими войсками.
– Nein, Spanien, nicht! – кричит Менш.
Все смотрят на стоящего перед генералом бледного и решительного де Фокса, испанец смотрит на Менша с гордостью и гневом.
– Si vous ne buvez pas à la santé de l’Espagne, – говорит де Фокса, – je crierai merde pour l’Allemagne[401].
– Nein! – кричит Менш. – Spanien nicht!
– Merde pоur l’Allemagne![402]– кричит де Фокса, поднимает бокал и смотрит на меня сверкающим взглядом триумфатора.
– Браво де Фокса, – говорю я, – ты победил.
– Vive l’Espagne, merde pour l’Allemagne!
– Ja, ja! – кричит Менш, поднимая бокал. – Merde pour l’Allemagne!
– Merde pоur l’Allemagne! – повторяют все хором и поднимают бокалы. Все обнимаются, кто-то падает на пол, генерал Менш ползет на четвереньках, пытаясь схватить бутылку, которая медленно катится по деревянному полу.
XVII
Зигфрид и лосось
– Обитые человеческой кожей кресла? – недоверчиво спросил Курт Франц.
– Именно так, обтянутые человеческой кожей кресла, – повторил я.
Все рассмеялись. Георг Бендаш сказал:
– Удобные, должно быть, кресла.
– Да, очень мягкая и тонкая кожа, – сказал я, – почти прозрачная.
– В Париже, – сказал Виктор Маурер, – я видел книги, переплетенные в человеческую кожу, а вот кресла не доводилось видеть никогда.
– Эти кресла стоят в замке графа ди Конверсано в Апулии, в Италии, – сказал я, – они сделаны приблизительно в средине XVII века. Граф ди Конверсано убивал своих врагов и приказывал сдирать с них шкуру, сдирать со всех: священников, дворян, мятежников и бандитов, а потом повелевал обить ею кресла для большого зала в своем замке. Там есть кресло, спинка которого обтянута кожей с груди и живота одной монахини. Еще и сейчас видны груди и соски, они потерты и блестят от долгого использования.
– От использования? – сказал Георг Бендаш.
– Не забывайте, многие сотни людей садились в те кресла за три столетия, – сказал я. – Мне кажется, этого времени достаточно, чтобы потерлась даже грудь монахини.
– Этот граф ди Конверсано, – сказал Виктор Маурер, – наверное, был настоящим чудовищем.
– А шкурами всех убитых вами в эту войну евреев, – сказал я, – сколько сотен тысяч кресел можно было бы обтянуть?
– Миллионы, – сказал Георг Бендаш.
– Шкура еврея ни на что не годится, – сказал Курт Франц.
– Конечно, шкура немца намного лучше, – сказал я, – из нее можно было бы выделывать великолепную кожу.
– Rien ne vaut le cuir d’Hermès[403], – сказал Виктор Маурер, которого генерал Дитль называл «le Parisien», парижанином. Виктор Маурер, кузен Ганса Мольера, пресс-секретаря немецкого посольства в Риме, был из Мюнхена, он много лет прожил в Париже, а теперь состоял в личной команде капитана Руперта. Для Виктора Маурера Париж – это бар отеля «Ритц», а Франция – его друг Пьер Кот.
– После войны, – сказал Курт Франц, – шкура немцев не будет стоить ничего.
Георг Бендаш рассмеялся. Он лежал в траве, закрыв лицо сеткой от комаров, жевал березовый лист и, поднимая сетку, время от времени сплевывал в траву. Рассмеявшись, он сказал:
– После войны? Какой войны?
Мы сидели на берегу реки Юутуанйоки, недалеко от озера. Река шумно бежала среди валунов. Над деревней Инари поднимался голубой дымок, лапландские пастухи варили суп на оленьем молоке в подвешенных над огнем медных котелках. Солнце покачивалось на горизонте как от ветра. Голубоватую лесную зелень с ласковым шелестом травы и листьев продували струи теплого ветра. Стадо оленей паслось на другой стороне реки. Сквозь деревья озеро светилось серебристыми разводами зеленого и розового фарфора, прекрасного мейсенского фарфора, оно просвечивалось робкими, чувственными зелеными и теплыми розовыми тонами, сгущающимися тут и там до сияющего бледного пурпура. Начинал накрапывать дождь, непрекращающийся летний дождь северного края. Почти неслышный всепоглощающий шорох пробежал по лесу. Вдруг поток солнечных лучей обрушился на окрашенную зеленым и розовым поверхность озера, едва слышный звон прозвучал в воздухе – с таким болезненным, нежным звоном лопается фарфор.
– Для нас война уже кончилась, – сказал Курт Франц.
Война нас не касалась. Мы были вне войны, в далеком краю, в неизвестном времени, вне человечества. Уже больше месяца мы топтали леса Лапландии, тундру вдоль реки Лицы, пустынные, голые, студеные камни фиорда Петсамо, выходящего в Ледовитый океан, красные сосновые и белые березовые рощи на берегу озера Инари, лысые холмы, тундру возле поселка Ивало; уже больше месяца жил я среди странного народа: молодых баварцев и тирольцев, беззубых и облысевших Alpenjäger с пожелтевшими морщинистыми лицами и униженными, отчаянными глазами диких зверей. Я спрашивал себя, что же на самом деле могло так глубоко изменить их? Они оставались немцами, каких я встречал под Белградом и Киевом, под Смоленском и Ленинградом, с такими же хриплыми голосами, твердыми лбами и разлапистыми, тяжелыми руками. Но что-то чудно чистое и невинное было теперь в них, чего никогда до этого мне не удавалось обнаружить в немцах. Может, животная жестокость, невинная, как жестокость младенцев и зверей. Они говорили о войне как о чем-то забытом, давно прошедшем, с тайным презрением и обидой за насилия, голод, разрушения и убийства. Они казались удовлетворенными жестокостью природы, как если бы одинокая жизнь в этих бескрайних лесах, удаленность от цивилизации, надоедливая бесконечность зимней ночи, долгие месяцы мрака, изредка разрываемые сполохами северного сияния, мучения бесконечного летнего дня с висящим день и ночь над горизонтом солнцем заставили их отказаться от собственно человеческой жестокости. В них появилась безнадежная униженность диких зверей, непостижимое ощущение смерти. Их глаза стали глазами оленьими – темными, глубокими и блестящими, – с таким же непостижимым животным взглядом, как взгляд мертвого человека.