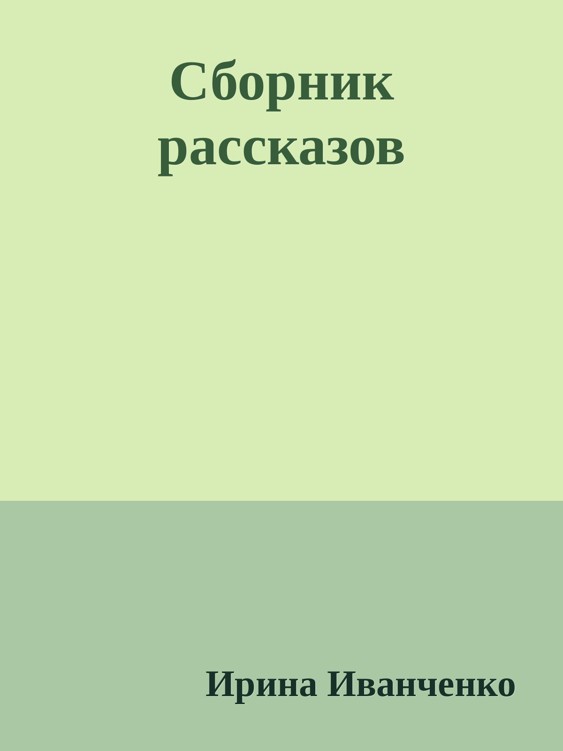же ждать? Наконец минут через сорок, он встал, подошел к ближайшему окошку, оно было слишком высоко, так что он видел через него только верхушки елей, раскачивающихся в пасмурном небе. Рама показалась ему ненадежной, ее легко выбить, или на худой конец – вынести само стекло с внутренним переплетом. Вылезать конечно будет неудобно, но он справится. В конце концов, надо хотя бы выглянуть – вдруг там шарится этот одноглазый.
Филипп подвинул ближайшую лавку к оконцу, она оказалась куда тяжелее чем он предполагал и сильно скрипела, когда он на нее забрался. Выглянув в окно с лавки, он увидел стену сарая и фрагмент забора. Из-за сарая вышла курица и тотчас скрылась из поля зрения. Из щелей в оконце дул в лицо холодный ветер с пылью. Тут ее было много, и он подумал, что ему чертовски неохота лазать через окна, будто какому-то пацану, но все же, видимо, придется.
В этот момент за спиной раздался звук льющейся жидкости, Филипп обернулся и чуть не свалился с лавки — за столом в центре кабацкой избы сидел Енисейский воевода Михаил Игнатьевич в богатой соболиной шубе и наливал из черного штофа в две небольшие серебряные кружки. Перед стойкой стоял, заложив руки за спину одноглазый.
– В сем кабаке наливают лучшее во всей Сибири вино. – Спокойно сказал воевода, будто не замечая странных занятий Филиппа. Он подвинул одну из наполненных кружек на противоположный край стола, не глядя при этом на Завадского. – У батюшки моего в Новгороде егдамест был в белых кухарях один ростовский мужик, овый занимался токмо настоем вин на индийских зернах. Индияне зовут его маисом. Я взял его с собой. Кухаря в смысле. Ведаешь посем?
Воевода наконец поднял взгляд на Филиппа.
Завадский уже спустившийся с лавки, но не смевший подходить, медленно покачал головой.
– Баловство простолюдину во вред, обаче ежели лишить его последней выспри, он станет зверем. Всюду буде дрянь, а в одном пущай годе. – Воевода указал на кружку на противоположной стороне стола. – Присядь, отведай.
Филипп покосился на стоявшего у стойки одноглазового. Тот походил в полумраке на незаметную тень – если бы не грозно сверкавший топорик на его поясе. Отчего-то Завадский был уверен, что владеет он им мастерски.
Филипп неспешно подошел, сел за стол напротив воеводы, взял кружку и приподняв в знак уважения, отхлебнул. Во рту вспыхнул вкус чистейшего бурбона. Приятный жар опрокинулся вниз, отдаваясь благородным хмельным воодушевлением.
– Кухарь вашего отца хорошо знает свое дело. – Сказал он.
Михаил Игнатьевич, тоже пригубивший бурбона, толстыми пальцами в перстнях огладил влажные усы. В его глазах не было теперь ни грамма простодушия, лишь отражение той хищной натуры, проблеск которой Филипп заметил при их первой встрече.
– Ну, теперь можно и поговорить серьезно. – Произнес он, мрачно глядя Филиппу в глаза. – Сказывай кто ты и еже тебе надобе…
***
Истома с молодыми своими друзьями-разбойниками сидел в огромной "медвежьей" зале бывших хором полковника Карамацкого. Друзья веселились — кто хлестал дорогое рейнское вино, кто обнимался с девками из новой гаремной избы. Кто рубился в карты, стуча по столу кулаками, от чего подпрыгивали кубки и серебряные монеты. Сам Истома восседал на кожаном диване в компании с долговязым головорезом Павлушкой по прозвищу Щегол и новой своей подругой красоткой полутатарской бывшей пленницей Тахией. Раскинув руки, он привычно сканировал проницательным взглядом свою компанию.
За окнами раздались крики, топот.
– Глянь, Щегол, – кивнул Истома долговязому.
Парень вскочил и выглянул в то самое окошко, через которое любил смотреть на въезжающих Карамацкий.
– Автандил с отрядом вернулися, – доложил Щегол.
– Автандил? – удивился Истома.
– Больно скоро.
– А ну зови его сюды!
Автандил скоро вошел в залу, и предстал перед Истомой.
– Все разъезды новые – сплошь невесные [неизвестные], Истома Агафонович, – докладывал Автандил тяжело дыша и сжимая кулаки, – на всех дорогах стоят, чужеяды! Ни до Красноярску не проехати, ни к общине поганца-расколщика.
– А по Ачинской стезе через распутье на Причулымье?
– Совались и туды, Истома, да и онамо [там] из Енисейска новый разъезд — не пущают! Прежде отродясь их там не бывати! Во еже будто весь Енисейский разряд от нас огородили. Да не братися [воевать] же с ними!
– А что сказывают разъездные про людей Гузнова? Внегда Красноряск под его областью бысти.
– Спрашивали — говорят не ведают. Сказывают токмо новая воля полковника.
Истома встал, пронзил страшным взглядом Автандила.
– Живо скачи в Енисейск! Сыщи Гузнова, разузнай еже за лайно деянится!
– Воля твоя! – быстро поклонился Автандил и поспешно ушел.
Истома повернулся к окну, продолжая зло глядеть исподлобья.
– Что думаешь, брат? – спросил у него Щегол.
– Сукин сын сделал ход. – Процедил сквозь зубы Истома.
***
Не успели обсудить молодые разбойники неожиданные новости, как в залу вошел слуга с посыльным из острога и доложил, что Истому срочно просит к себе воевода.
– Почто?
– Сказывает токмо еже дело срочное, Истома Агафонович, важные вести пришли из Енисейска.
– Идем, – Истома зашагал к выходу. Щегол тотчас кликнул остальных разбойников, все побросали свои увеселительные дела и пошли за хозяином.
– Давеча были вестовые из Енисейска? – спросил Истома у посыльного, надевая мурмолку.
– Сего дни приехали к воеводе гонцы оттудова. Подьячий с рындами.
Истома со своими боевиками вскочили на коней и понеслись в ночи в Томский острог — мимо охранных разъездов и караулов — тем же самым прогоном, которым летал здесь когда-то лихой Карамацкий.
Распахнув острожные ворота, караульные поклонились новому полковнику.
Истома, не обращая на них внимания проскакал к главным хоромам, соскочил и приказав пьяным рындам оставаться внизу, сам в сопровождении Щегла и похожим на гориллу рындой по прозвищу Каин направился в воеводскую комору.
Томский воевода Степан Иванович стоял у окна, подпоясанный, при параде, несмотря на поздний час, держал в руке какую-то бумагу.
Кроме него в коморе был дьяк и стояли у стены два верных рындаря его.
– Во-то, Истомушка, – ласково сказал Степан Иванович, поднимая бумагу, – приказ сей на твой арест.
– Да ты спятил что ли, старик! – крикнул Истома.
Щегол и Каин схватились за рукоятки палашей, но вскочившие в комору четверо незнакомых стрельцов повалили их с ног.
Степан Иванович вскинул руки и ласково заговорил, обращаясь к уложенным навзничь охранникам Истомы:
– Не дурите, ребятушки, не шурмуйте, ежели