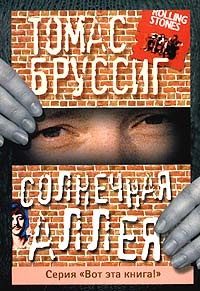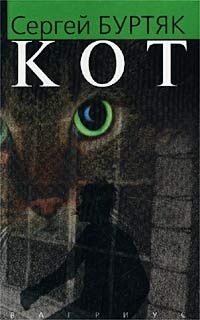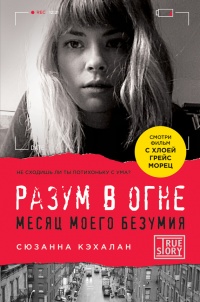Начиная воспоминания, которые вы сейчас читаете, я знал, что каждое наше слово и каждый поступок отсылают к целому миру обычаев и событий. Нет ни единого вздоха на земле, который бы не затрагивал порядок, установленный небесами. Все связано, все взаимозависимо. Нет любви, не зависящей от политики или от искусства. Любые, даже самые малозначительные человеческие или общественные отношения отражают состояние нравов, эволюцию религий, всего того, что создает воздух времени и климат эпохи. Что происходило у нас в 1960 году? Разумеется, драма, нанесшая Филиппу последний и самый чувствительный удар, от которого все его чаяния превратились в иллюзии: война в Алжире. Я мог бы написать книгу об Анне-Марии и ее безрассудных похождениях. Мог бы также написать книгу о роли, сыгранной Филиппом в событиях в Алжире. В каком-то смысле это была бы одна и та же книга, хотя и написанная как бы с противоположных сторон, поскольку оба они, и Анна-Мария и Филипп, каждый по-своему и совершенно разными способами отражали одну и ту же эпоху.
Филипп был безусловным сторонником французского Алжира. Как вы знаете, он не делал выводов из уроков истории и мало беспокоился о том, что у ее ударов бывает отдача. Он, естественно, был одним из тех, кто способствовал возвращению де Голля к власти. И с этого момента после краткого периода ликования вся его жизнь превратилась в сплошные испытания. В вашем окружении вы, наверное, видели и сторонников французского Алжира, и сторонников де Голля. Думаю, что вы знали и людей, поменявших убеждения, бросивших де Голля, которому они аплодировали 13 мая, и других, поменявших лагерь в обратном направлении, последовавших за генералом к независимости, хотя до этого они опасались его как фашиста, а теперь поддерживавших его. Драма Филиппа, длившаяся до самой его смерти, заключалась в том, что он оставался или пытался оставаться до конца фанатичным сторонником и французского Алжира, и генерала. Из нас всех Филипп был, наверное, наиболее простым человеком: националистом, патриотом, консерватором. Человек прямой, он терпеть не мог хитроумных уловок современного мира. Трижды в своей жизни он оказывался в тупике. Будучи националистом, он восхищался национализмом других, обернувшимся против нашей страны. В течение года или двух, пока его не спас де Голль, он пребывал в неслыханном положении националиста, поддерживавшего, сомневаясь и колеблясь, иностранный национализм в его войне против родной демократии. Де Голль и только де Голль помог ему выйти из тупика, и Филипп никогда этого не забывал. Однако после освобождения — и это было, как бывает в бретонских и арабских сказках, второе испытание — он, деголлевец, оказался в числе тех, кто выступал против чисток и охоты на петеновцев. Оказался в лагере тех, с кем воевал, но кого понимал, потому что когда-то разделял их ошибки и иллюзии. И вот теперь он снова, в третий раз, почувствовал, что история поймала его в ловушку.
Как и все мы, Филипп был уже немолод. Ему уже давно перевалило за пятьдесят. Теперь и он вслед за Пьером, в свою очередь, тоже приближался к шестидесятилетию. Но поскольку он никогда не был женат и женщин имел почти столько же, сколько Анна-Мария — мужчин, то он сохранил в себе что-то от подростка, некую свежесть, некую способность мгновенно загораться, сохранил почти детскую наивность. Женщин любил по старинным правилам. Столь же суровый, как и дедушка к гомосексуалистам, к эротизму, ко всем видам скандальных отношений, к современным живописи и музыке, в которых видел лишь одну из форм педерастии, ко всему, чего он не понимал, Филипп с возрастом все больше походил на старомодного галантного джентльмена. Он с удовольствием разыскивал в прошлом нашей страны средства от упадничества, которое неутомимо разоблачал с ворчливым, забавлявшим детей юмором. Он разделял народную любовь к военной музыке, к парадам 14 июля, которые, в отличие от нашего деда, никогда не пропускал. Он смотрел на себя прежде всего как на ветерана войны, и это его самовосприятие, сменившее фашизм его молодых лет, стало как бы лекарством от последнего. Подготовка к событиям 13 мая 1958 года вновь окунула его в любимую им атмосферу военных заговоров, конспирации во всенародном масштабе. На протяжении двух или трех недель он участвовал в инициированном де Голлем процессе. Он вернулся к подпольной деятельности в общенациональном масштабе, напоминавшей интригу романа плаща и шпаги или слегка ироничного приключенческого фильма, где герой участвует то в любовных или светских сценах, то упражняется в силовых приемах. И когда генерал вернулся к власти, Филиппу стало казаться, что он способствовал возрождению Франции.
По причинам, на которые я уже не раз указывал, в этих воспоминаниях содержится слишком много заметок исторического и социального порядка. У меня нет ни малейшего желания ни описывать, ни комментировать после стольких полковников, дипломатов и журналистов эволюцию алжирской политики генерала де Голля. Во-первых, потому что я мало в ней сведущ, а во-вторых — и это главное, — что моя цель состоит не в том, чтобы описывать в который уже раз, историю последних лет, а лишь показать, как она пронизывала и влияла на поведение людей, быть может, даже больше, чем их опыт в области чувств или прямо-таки сакральные годы младенчества. Изменил ли генерал де Голль свое мнение об Алжире в период между 1958 и 1960 годами или можно было, обладая опытом, угадать зародыши будущих событий в его заявлениях, вызывавших энтузиазм толпы на алжирском Форуме и на улице Исли? Откровенно говоря, я не знаю. Знаю лишь, что Филипп — возможно, потому, что был не очень умен, — вообразил и твердо поверил, что если генерал станет президентом, то Алжир наверняка останется французским. Вероятность иной политики он допускал. Но не мог допустить, что такую политику будет проводить де Голль. Сила де Голля, его гений в том и заключались, что ошибочное мнение Филиппа разделяли многие, как среди сторонников интеграции Алжира, так и среди сторонников независимости последнего. Генерал менялся, необыкновенно талантливо лавировал между теми и другими, опираясь то на одних, то на других, а то и одновременно на тех и на других, постоянно ими манипулируя. Многие из тех, кто поддерживал миф де Голля, не одобряли его политику, а большинство людей, одобрявших его политику, ни в коем случае не хотели, чтобы ее осуществлял этот генерал, которого они так ненавидели. Эта его неопределенность и резкие повороты порождали возможности для необычно рискованных действий, намного превосходящих воображение Филиппа и его способность к обновлению, ибо он не обладал ни качествами, ни недостатками, необходимыми для того, чтобы быть хозяином своего времени.
В нем жила добросовестность, отсталая добросовестность, повернутая в прошлое. Этого было мало. История учит, что добросовестности недостаточно, чтобы занять место, которое обеспечивают хитрость, амбициозность, предвидение, ум и гениальность. Филипп предавался иллюзиям о франко-мусульманском братстве. В Италии и в Германии он сражался в составе алжирских частей, где его уважали и где он имел много друзей. Я никогда не поверю, что он был причастен к убийствам или пыткам. Он старался, по его выражению, объединять людей доброй воли и возбуждать их энергию, не занимая никакой официальной должности, он принадлежал к числу тех, кто целыми днями крутился вокруг баров «Алетти» и «Сен-Жорж» и в странной, многократно описанной обстановке, связанной с тайными делами и национальной безопасностью, плел интриги и готовил перевороты. Однако по мере того, как проходили дни, недели, месяцы, Филипп вынужден был признать, что намерения генерала не соответствовали тому, чего он от него ожидал. Потеря Плесси-ле-Водрёя стала для Филиппа ужасным ударом. А осознание сути алжирской политики генерала явилось еще одним, может быть, гораздо более сильным. Мир вокруг Филиппа все больше и больше умирал, а история не переставала его предавать.