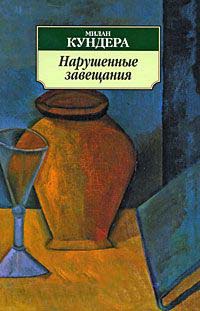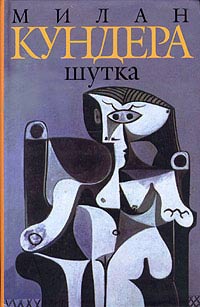И все же, хотя столь многое теперь разделяло нас с женой во времени, с ней самой в душе моей ничего не происходило. В неком заколдованном царстве, немом и недвижном, она обреталась близ моего сердца, где-то в соседней комнате, скажем так. Стоило только туда войти, и она была там, погруженная в ничем не нарушаемую тишину, и читала свои заумные книжки. И лишь сейчас, после стольких лет, выяснилось, как обстоит дело со мной, и наверное, потому, что мне до такой степени не хотелось вспоминать ее. Оказалось, что мне приятно было бы отсюда заглянуть ненадолго в «Брайтон», сесть за свой столик в углу, где спина защищена стеной, и оттуда вновь вернуться домой, разложить перед собою свои обширные ведомости да реестры и погрузиться в работу при свете лампы под круглым абажуром.
Вот из-за чего, собственно, я все это рассказываю.
Ее роковую близость чувствовал я и тогда, в тот день. Ведь все же в ее руках была моя жизнь в этом городе, не следует забывать, что именно она выцарапала меня у смерти. Я неотступно думал об этом, и передо мной возникала одна и та же картина, о которой я ни разу не вспоминал с тех пор: я болен и притворяюсь, будто сплю… Да-да, все так и было. Мне хотелось, чтобы она хоть немного отдохнула. Но она все-таки проверяла, как я, что со мной, низко склонялась над постелью, и к лицу ее приливала кровь. А в глазах застыло выражение глубокой озабоченности.
Значит, все-таки она любила меня — вот что хотел я доказать себе, каждой вспышкой чувств. Хотя тогда я уже вышел на улицу. На душе было до того хорошо, благостно, точно озарило ее горним светом.
От минутной, мимолетной надежды, что жена все-таки любила меня.
И это, конечно, беда, и немалая: что я по-прежнему чувствую себя на седьмом небе от одной этой мысли!
— Уймись, глупый болтун! — попытался я вновь отогнать ее от себя. Но тщетно.
Ведь говорю же, не знаю, что бы я отдал сейчас за возможность вернуться домой, как прежде. Не куда-нибудь еще, а только туда. То бишь к ненавистным крышам, над которыми перед закатом кружат белые голуби.
А тут еще это убогое предрассветное кафе с Лиззи и Додофэ. Вот почему я запер накрепко, причем окончательно, дверь в другую, близкую сердцу комнату.
Цвет ее глаз я с трудом припоминаю, сколько бы ни напрягал память. Прежде я называл их голубыми, но, пожалуй, это было не так. Скорее, цвета янтаря — таково мое впечатление, — янтаря, темневшего от сильных страстей, или же отливающего синевой в ненастье. Далее: была ли она упоительной или же скучной? Красивой или нет? Теперь, как правило, лицо ее представляется мне заспанным, а волосы — взлохмаченными. И тогда она кажется мне красивой.
На этом, пожалуй, можно бы и закончить, поскольку исчерпан круг воспоминаний, которые я спозаранку позволяю себе поворошить. Уж в этакой малости грех себе отказывать. Ни к морфию не прибегаешь, ни кокаином не балуешься… должна же быть у человека хоть какая-то дурная привычка. Если нет у меня ни будущего, ни надежд, да еще и отречься от прошлого, что же останется мне под конец? О чем тогда размышлять по утрам, не о пипетке же, которую держишь в руках? Кстати, я пришел к одному важному выводу, и как раз в ходе раздумий на заре нового дня. До сути вещей докопаться невозможно. Крути-верти сколько угодно — невозможно прожить их во всей глубине и полноте, ибо жизнь не поддается глубинному проникновению, и мы, судя по всему, касаемся лишь ее поверхности, ее пенной накипи.
Ведь не будь это так, чем тогда объяснить, что порой меня даже охватывает сомнение, действительно ли произошло со мной все то, что я изо всех сил пытаюсь сохранить в себе. Не уверен, признаюсь откровенно. У прошедшего есть свойство испариться, развеяться туманной дымкой, и память ему это позволяет. Как же это понимать? Выходит, душа сродни воздуху или воде, коль скоро от всплесков ее и следа не остается?
С другой стороны: если допустить, что я всецело постиг случившееся, то как объяснить, что я и по сей день в состоянии ворошить прошлое и изо дня в день открываю в нем нечто новое… что иногда оно кажется мне сладостным, а в другой раз — горьким… Не стану продолжать, поскольку это уводит в бесконечность — в нескончаемость раздумий. Достаточно сказать, что мне приятно время от времени копошиться в этих мыслях, а предрассветный сумрак — весьма подходящая пора для подобных занятий. Закутаешься поплотнее в одеяло и чувствуешь, как в голове постепенно яснеет, как во внешнем мире за окном. Ощущение настолько приятное, что наверняка захватило бы меня целиком, не будь я властен над собой. Но я собой владею и даже разработал на этот случай психологическую практику: полчаса даны на откуп мечтам, после чего я мигом вскакиваю с постели и начинаю новый день. Лучшее средство против подобных «запоев» — непрестанно находиться в движении. И уж коль скоро мы об этом заговорили, перейдем к перечислению моих новейших парижских впечатлений.
Начнем с самого главного: я все же поступил в университет. Конечно, не студентом, а вольнослушателем. Что послужило тому причиной? Не справляясь с химией в одиночку, я нанял себе репетитора. Но тот получил работу где-то за границей и уехал. А поскольку он и ранее водил меня иногда в университет, чтобы продемонстрировать кое-какие опыты (сам-то он служил практикантом в институте химии), я не стал подыскивать себе другого наставника, а взял да записался на курс. Посмотрим, справлюсь ли?
Вот и вся предыстория.
Тем самым мне удалось подавить в себе чувство страха, с детских лет охватывавшего меня при виде храма науки, а в последнее время — главным образом из-за возраста: мне, мол, там не место. Но теперь, когда я увидел, что ни одна живая душа на меня внимания не обращает, я разохотился, даже, можно сказать, вошел в раж.
И действительно трудился на совесть, с утра до вечера, не то что какой-нибудь студент. Корпел, не поднимая головы. Поначалу возникали кое-какие досадные обстоятельства, но я их быстро преодолел. Упомяну хотя бы одно: странной казалась мне эта нынешняя молодежь, никак я не мог к ней приноровиться.
«То ли дело в наше время!.. — так и просится на язык. — Тогда и молодежь была другая». Черта лысого, такая же точно была, как и теперь. Человек во все времена одинаков, разве что одежда меняется — сегодня, скажем, чуть покороче да поведение раскованнее. Пожалуй.
Молодежь устремлялась потоком. И не сказать, чтобы страстно — равнодушной массой, как воды Миссисипи. Швыряли на столы тетрадки и насвистывали сквозь зубы. Понимай так, что они неколебимы и стойки. Только в чем они столь уж неколебимы?.. Я в ту пору вечерами почитывал прозу Леопарди, очень талантливый был человек, блестящий ум, и мне иногда думалось: а что сказал бы на это Леопарди? Да ничего не сказал бы. Тогда чего уж мне говорить?
Должно быть, эта молодежь — коммунистических убеждений, предполагал я. Ничуть не бывало. Потому что доводилось слышать и такие высказывания:
— Воображаете, будто меня интересует коллективное сообщество?