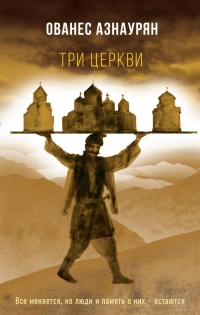Фридрих смотрит на меня и говорит:
– Иногда я просыпаюсь ночью и думаю, что Уго нет в живых.
Он смотрит на меня звериным оком, оленьим, таинственным взглядом лесного зверя, какой бывает у мертвого человека.
– Почему ты думаешь, что твой брат умер? Я видел его в баре «Эксельсиора» перед отъездом из Рима, – говорю я, хоть и знаю, что Уго мертв.
– Чем плохо быть мертвым? – говорит Фридрих. – Ничего плохого, это не запрещено. Разве запрещено быть мертвым?
Тогда я вдруг говорю ему:
– Эх, Фрики! Уго мертв. Я видел его в баре «Эксельсиора» перед моим отъездом из Рима. Он был уже мертвый. Он просил меня передать тебе привет. Он не мог написать письмо, потому что был уже мертвый.
Фридрих смотрит на меня оленьим глазом, своим унылым, обреченным оленьим глазом, таинственным звериным взглядом, каким смотрит мертвый человек. Фридрих улыбается и говорит:
– Я знал, что Уго умер. Я знал это задолго до его смерти. Чудесная это штука – быть мертвым.
Он наливает мне, я беру стакан, моя рука дрожит.
– Nuha, – говорит Фридрих.
– Nuha, – говорю я.
– Хотел бы я вернуться в Италию на несколько дней, – говорит Фридрих после долгой секунды молчания, – хотел бы побывать в Риме. Такой молодой город Рим.
Потом добавил:
– А что поделывает Паола? Давно ее видел?
– Я встретил ее на гольфе однажды утром незадолго до отъезда. Она красива. Я очень люблю ее, Фрики.
– Я тоже ее люблю, – говорит Фрики, потом спрашивает: – А что делает графиня Чиано?
– Что она может делать? То же, что и все.
– Ты хочешь сказать…
– Да нет, Фрики.
Он смотрит и улыбается. Потом говорит:
– А чем занимается Луиза? А Альберта?
– О Фрики, – говорю я, – они занимаются проституцией. Это очень модно сейчас в Италии – заниматься проституцией. Все стали проститутками: Папа, король, Муссолини, наши любимые князья, кардиналы, генералы – все занимаются проституцией в Италии.
– В Италии так было всегда, – говорит Фридрих.
– Так было и так будет. Я тоже, как и все, много лет был проституткой. Потом мне опротивела такая жизнь, я взбунтовался и попал в тюрьму. Но быть узником – это тоже значит быть проституткой. И совершать героические поступки, даже сражаться за свободу – тоже один из видов проституции в Италии. И даже говорить, что это ложь и оскорбление памяти павших за свободу – тоже один из видов проституции. Выхода нет, Фрики.
– В Италии так было всегда, – говорит Фридрих. – Все та же родина под развевающимися знаменами в глубинах того же белого чрева:
В глубины белого чрева
Зовет меня отчизна,
Под флаги, что полощут на ветру…
– Разве не ты написал эти стихи?
– Да, это мои. Я написал их на острове Липари.
– Печальное стихотворение. Кажется, оно называется «Ex-voto»[400]. Обреченная поэзия. Чувствуется, что оно написано в тюрьме. – Он посмотрел на меня, поднял стакан и сказал: – Nuha.
– Nuha, – сказал я.
Мы помолчали бесконечно долгую секунду. Фридрих улыбался и смотрел на меня глазами дикого зверя, потерянными и обреченными глазами. Дикие крики донеслись из глубины зала. Я обернулся и увидел генерала Дитля, губернатора Каарло Хиллиля и графа де Фокса, стоящих в окружении немецких офицеров. Время от времени раздавался неожиданный резкий голос Дитля, тонувший в оглушительных криках и смехе. Я плохо разбирал, что декламировал Дитль, мне показалось, он очень громко повторял слово «traurig», что значит «печальный». Фридрих посмотрел вокруг и сказал:
– Это страшно. День и ночь постоянные оргии. А тем временем количество самоубийств среди солдат и офицеров катастрофически увеличивается. Сам Гиммлер приехал сюда, чтобы попытаться положить конец этой эпидемии самоубийств. Скоро он прикажет арестовывать мертвецов и хоронить их со связанными руками. Он считает, что с самоубийствами можно бороться с помощью террора. Вчера он приказал расстрелять троих Alpenjäger за попытку повеситься. Гиммлер не знает, как это чудесно – быть мертвым.
Он посмотрел на меня своим оленьим взглядом – таинственным, животным, каким смотрят глаза мертвого человека.
– Многие стреляют себе в висок. Многие топятся в озерах и реках, самые молодые из нас. Другие в бреду шатаются по лесу.
«Trrraaauuurrriiig!» – вопил на высокой ноте генерал Дитль, подражая страшному свисту штурмового самолета «Штука», а генерал авиации Менш кричал «Bum!», доводя вой до страшного взрыва бомбы. Все орали хором, свистели, издавали дикие звуки губами, руками, ногами, изображали треск падающих стен и свист завывающих осколков, разлетающихся в небесах после взрыва бомбы. «Trrraaauuurrriiig!» – вопил Дитль. «Bum!» – кричал Менш. Все хором подхватывали безумные крики. Сцена дикая и гротескная, варварская и инфантильная одновременно. Генерал Менш – маленький, худой человек пятидесяти лет с желтым лицом в сетке тонких морщин, с беззубым ртом, с редкими седыми волосами и узкими недобрыми глазами. Он кричал «Bum!» и сверлил де Фокса странным ненавидящим и презрительным взглядом.
– Halt! – вдруг крикнул генерал Менш и поднял руку. Повернувшись к де Фокса он грубо спросил: – Как будет по-испански «traurig»?
– Triste, – ответил де Фокса.
– Попробуем «triste», – сказал Менш.
– Trrriiisssteee, – прокричал генерал Дитль.
– Bum! – крикнул Менш.
Он поднял руку и сказал:
– Нет, «triste» не пойдет… Испанский – не военный язык.
– Испанский – христианский язык, – сказал де Фокса, – это язык Христа.
– Ага, Христос! – сказал Менш. – Попробуем Христа.
– Crrriiissstooo! – прокричал генерал Дитль.
– Bum! – прокричал генерал Менш, потом поднял руку и сообщил: – Нет, Христос не пойдет.
К генералу Дитлю подошел офицер, что-то тихо сказал ему, Дитль повернулся к нам и твердо объявил:
– Господа, вернувшийся из Петсамо Гиммлер ожидает нас в штабе. Мы идем воздать ему почести от имени немецких солдат.
И вот мы на большой скорости несемся в машине по пустынным улицам Рованиеми, погруженным в белое небо, рассеченное розовым шрамом горизонта. Может, еще десять вечера, а может, уже шесть утра. Только бледное солнце покачивается над крышами домов матового цвета, река печально сверкает между деревьями.
Мы подъезжаем к военному городку, расположенному на опушке серебристой березовой рощи сразу за городской чертой. Здесь находится Генеральный штаб верховного командования Северным фронтом. К Дитлю подходит офицер и, смеясь, говорит: