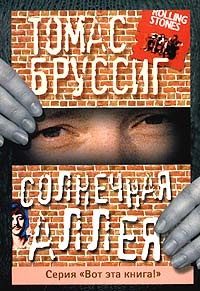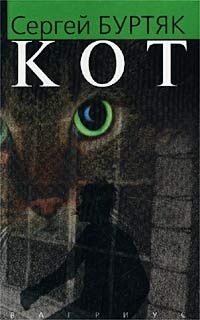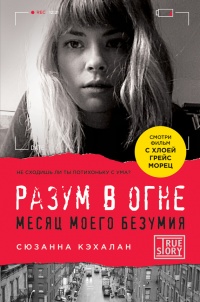Написать толстую книгу об Анне-Марии было бы делом нетрудным. Кроме очерков и альбомов, посвященных непосредственно ей, мне известны по крайней мере два-три романа, героини которых создавались явно не без оглядки на ее красоту и безрассудство. Когда сегодня я думаю о ней, передо мной возникает сложный образ. Впрочем, вы, наверно, заметили, что, говоря о родственниках, я не столько выделяю ту или иную запоминающуюся деталь, сколько описываю образ, сохранившийся в памяти. Но сами эти образы я, естественно, хочу воссоздать как можно вернее и точнее, вплоть до мелочей. И какими бы застывшими они ни были, образы эти меняются со временем, подобно нашим представлениям о старике Гюго или юноше Рембо. Анна-Мария уже не была той девочкой, обедавшей вместе с нами в детской столовой в Плесси-ле-Водрёе, ни девушкой, влюбленной в Робера В., ни почти невестой, уже ставшей вдовой, вокруг которой увивался майор фон Витгенштейн, ни любовницей кучерявого подпольщика. Она стала кинозвездой, сменившей Аву Гарднер или Мэрилин Монро и ставшей, наряду с Брижит Бардо и Жанной Моро, типичной интернациональной знаменитостью. Мы видели ее силуэт рядом с Онассисом, с неотразимым Кеннеди, с принцем Орсини на первой полосе «Франс-диманш» или на обложке «Пари-матч». Но и в ее жизни кинозвезды тоже было несколько этапов. На протяжении 50-х годов она поднималась по невидимым ступеням популярности и успеха. И вдруг — то ли мигрень, то ли смена прически, то ли тяжелый перелет, то ли глаз не видевшего ее пару-тройку лет приятеля — она начала стареть. В начале 60-х она была еще восхитительна, обожаема, неотразима. Но закат был уже близок. Она упорствовала, пыталась забыться, но чувствовала, что та жизнь, к которой она так стремилась, ускользает, как песок между пальцами. Временами она не находила себе места. И тут она становилась еще более неуправляемой, чем в годы взлета ее карьеры. Даже отец ее не мог ничего поделать. Только Клоду и мне удавалось немного ее утихомирить. Когда нас не было рядом с ней, происходило нечто ужасное, какие-то странные видения с вереницами ее любовников с разного рода кошмарами, о которых мы не имели ни малейшего представления и в которых находилось место и золоченым потолкам Плесси-ле-Водрёя, и лесным озерам.
Все эти такие различные фигуры возникали то тут, то там в светских беседах, в мемуарах актеров, в романах Нормана Майлера или Трумэна Капоте, в рассказах, которые плели у камина на старинный манер где-нибудь в Шотландии или в салоне на авеню Монтень, какой-нибудь старый дядюшка, приехавший с берегов Рейна поохотиться на куропаток, или римская принцесса, остановившаяся проездом в Париже, чтобы купить новые платья. Человек, не знавший Анны-Марии и услышавший о ней из разных уст, мог подумать, что речь идет о разных людях. Отказываясь то и дело от предлагавшихся ей партий, она кончила тем, что прожила как бы пять или шесть различных жизней. Еще в прошлом году я встретил двух пожилых мужчин, когда-то, по-видимому, красивых и занимавших солидное положение в совершенно разных областях, и оба они много лет мечтали жениться на Анне-Марии. Как бежит время! Вот-вот ей должно было исполниться сорок лет. Анна-Мария отказала стольким красивым и талантливым мужчинам, любившим ее без ума, и вот теперь пыталась женить на себе толстого и очень богатого ливанца, занятого в нефтяном бизнесе. В ту пору все были заняты решением алжирской проблемы. У ливанца были не только деньги, открывавшие перед ним все двери, он был еще и умен. Он раньше других понял, кому принадлежало будущее. И в самый разгар войны в Алжире через голову французского правительства вел переговоры с крупными нефтяными компаниями, с Энрико Маттеи, с Фронтом национального освобождения и с Временным правительством Алжирской Республики.
Мне вспоминается один вечер в Риме — через столько лет после тех ночей, когда мы с Клодом подростками бродили вместе с Мариной возле Тибра и Колизея, когда Анна-Мария пригласила нас в один из роскошных дворцов, снимаемых ее любовником. Были там Клод с Натали, Филипп, Пьер с Этелью, несколько актеров и актрис, несколько князей и княгинь, кое-кто из деловых людей и я. Случилось это год или полтора спустя после триумфа «Сладкой жизни». В течение очень долгого времени мы играли нашего «Гепарда» в Плесси-ле-Водрёе. Теперь же мы играли их «Сладкую жизнь» в арендованном дворце. Мы пили. Всем нам, разумеется, было что забывать. И мы забывали, забывали с помощью вина, наркотиков, азартных игр, девушек и мальчиков, первых попавшихся, которыми без различия пользовались и мужчины, и женщины. Была ли новой такая жизнь, начавшаяся в веселые времена году эдак в 1925-м и обретшая второе дыхание тридцать пять или сорок лет спустя на пространстве от Лондона до Сен-Тропе и от Рима до Санкт-Морица? Конечно, она сильно отличалась от строгого XIX века с его пуританскими нравами времен королевы Виктории и с очень строгими обычаями, существовавшими в Плесси-ле-Водрёе. Быть может, такой образ жизни был лишь продолжением старинных традиций, восходивших к стилю Регентства, к концу XVIII века, а может, к еще более старым временам, к эпохе Возрождения с ее аппетитами, а то и к Римской империи времен упадка с ее культом наслаждений? Наряду с теми, кто благодаря своей вере или надежде склонен находить в истории какой-то прогресс, не без отклонений, разумеется, есть также люди, обнаруживающие в истории лишь вечное повторение бесконечно повторяющихся аналогичных ситуаций. Мы выходили из долгого испытания, сила духа у нас была надломлена, будущее виделось неопределенным, а ценности оказались ненадежными. Всего этого было достаточно, чтобы мы кинулись в погоню за наслаждениями, и морализирующий историк легко может усмотреть в этом результат сложения всяческих неблагоприятных факторов: тревоги, инфляции, безотцовщины и морального одиночества. Я полагаю, что в ту пору на нас начала сказываться потеря Плесси-ле-Водрёя: Клод, Филипп, Пьер, Анна-Мария, да и я тоже, все мы были привязаны к той природе, к тому искусству, к той амальгаме дикости и утонченности, в которой воплотилось наше семейство и с которой нам пришлось так резко расстаться. Нам было трудно прийти в себя после разрыва с нашим прошлым и с нашими привычками. Мне вдруг стала приоткрываться буржуазная сущность нашей пасторальной жизни. Мы-то думали, что по-прежнему продолжаем существование наших предков в Плесси-ле-Водрёе, тогда как на самом деле, возможно, просто жили жизнью господствующего класса конца XIX века. Ну, разве уйдешь от своей эпохи? Можно быть выше или ниже ее, можно с ней бороться, как мы делали это постоянно, но время всегда вас догоняет и метит своим знаком. Я начал соглашаться с тем, что было истинно в суждениях Клода: несмотря на давнюю нашу неприязнь к деньгам и к промышленности, к Луи Филиппу и к Республике, несмотря на наши охотничьи рога и любовь к Сен-Симону, мы превратились в буржуа. В крупных буржуа, не в мещан, но все же в буржуа. И стали еще больше буржуа, поняв, наконец, что мы — буржуа, и возмутившись этим открытием. В Плесси-ле-Водрёе нам и в голову бы не пришло, что мы — буржуа. А как только поняли, что мы вывалились из нашей дворянской башни и упали в ненавистный нам класс, мы тут же восстали против него и стали предпринимать попытки забыться с помощью наркотиков и азартных игр в компании арабских революционеров и итальянских актрис. При этом нельзя было себе представить ничего более буржуазного, чем совокупность всех этих демаршей и нашего неприятия этого нового статуса.