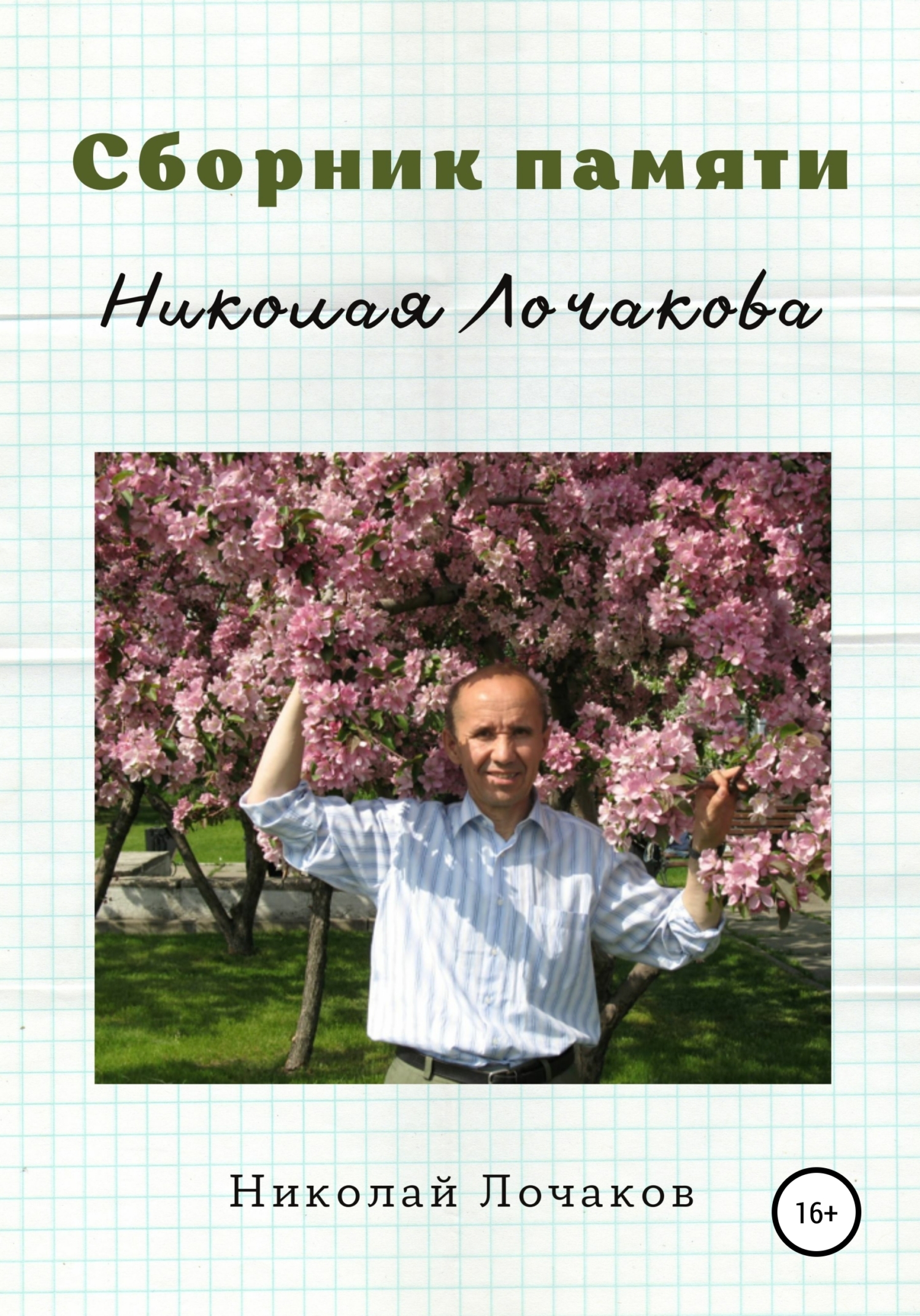хитроумной, но пустой, до жалости пустой конструкцией.
Он хотел принести дань уважения всей литературе предшествующих веков? Шах и мат. То, что было длинной ссылкой на источники, объявили плагиатом, и никто не заметил, что он был богат до того, как украсть что бы то ни было.
Этот его крах иллюзий может стать уроком для нас, Файе. Кем по сути был Элиман? Я не знаю, к каким догадкам привело тебя в последние недели твое расследование. Но я вижу возможный ответ на этот вопрос: Элиман был тем, кем мы не должны были стать и кем мы постепенно становимся. Он был предупреждением, которое мы не захотели услышать. Предупреждением, адресованным нам, писателям-африканцам: создайте собственную традицию, положите начало собственной истории литературы, откройте собственные литературные формы, опробуйте их на своем собственном материале, сделайте свое воображение плодоносным, создайте собственную почву для творчества, ведь только на ней вы сможете существовать для самих себя, но также и для других. Кем по сути был Элиман? Самым убедительным и самым трагическим результатом колонизации. Он был самым блестящим успехом этого предприятия, более впечатляющим, чем асфальтированные дороги, больницы и катехизация. Нашим предкам-галлам такое и не снилось! Жюль Ферри переворачивается в гробу! Но Элиман символизировал и то, что колонизация с привычной для нее свирепостью уничтожила в подвергшихся ей народах. Элиман хотел стать белым, и ему напомнили, что он не только не белый, но и никогда не станет белым, несмотря на весь свой талант. Он предоставил все доказательства своей принадлежности к белым, а в ответ его ткнули носом в то, что он черный. Возможно, он освоил Европу лучше, чем европейцы. И чем он кончил? Безвестностью, исчезновением, уходом в никуда. Ты без меня знаешь, что колонизация несет покоренным народам разорение, смерть и хаос. Но она – и это ее самая страшная победа – еще и внушает им желание превратиться в то, что их уничтожает. Взгляни на Элимана: в нем вся печаль отчуждения.
И я думаю, Файе, что такая же участь ждет и нас с тобой, если мы и впредь будем бежать вдогонку за Европой, за великой западной литературой: все мы, каждый по-своему, превратимся в Элиманов. А может быть, уже превратились: в этом случае давай перестанем быть ими, пока мы не погибли. Нам надо выбираться на волю, Файе. Нам всем пора удирать. Скоро мы задохнемся. Нас удушат газом без всякой жалости, и наша смерть будет тем более трагичной, что никому не придется загонять нас в душегубку – мы сами побежим туда со всех ног в надежде, что нас там будут чествовать. Из нас сделают черное мыло. А потом наши убийцы вымоют им руки, чтобы стать еще белее.
Элиман исчез не потому, что его обвинили в плагиате, а потому, что у него была несбыточная, недозволенная мечта. Возможно, это чувство горечи побудило его исчезнуть; но я надеюсь, он все же сознавал, что смерть во французской литературе была для него счастьем, если он хотел посвятить себя созданию своего настоящего произведения, то есть такого, какое он должен был создать только для самого себя.
В эти последние дни я принял решение, Файе: я не вернусь во Францию. Во всяком случае, не сейчас. А быть может, и никогда. То, что я по-настоящему должен написать, может быть написано только здесь, поблизости от моего колодца. То, что колодец недостроенный, – метафора моей жизни: это моя внутренняя трагедия, но также и смысл своего будущего. Я должен продолжить копать этот колодец, пока он не достигнет нужной глубины. Продолжить и завершить колодец своего отца. Это не отступление вглубь моего «я», потому что собственное «я» у меня еще не сформировалось. То, что я считал своим «я», на самом деле было скоплением чужеродных организмов. Пора от них избавиться. Я не вернусь в Париж, где нас одной рукой кормят, а другой душат. Для нас этот город – ад, притворяющийся раем. Я останусь здесь, буду писать, учить молодых, создам театральную труппу, буду декламировать на улицах стихи, рассказывать и показывать, что значит быть здесь художником, возможно, буду подыхать с голоду и найду свою смерть, как бездомный щенок на улице, раздавленный реальностью в образе старого драндулета без тормозов; но это случится здесь. Вот почему я всегда буду благодарен тебе за то, что ты дал мне прочитать Элимана.
Знаю, ты со мной не согласишься: для тебя наша культурная двойственность всегда была истинным жизненным пространством, прибежищем, которое мы должны были обживать как можно старательнее, раз уж мы взвалили на себя это непосильное бремя; мы, бастарды цивилизации, бастарды из бастардов, родившиеся от насилия, которое совершила над нашей родной историей чужая, враждебная история. Только вот боюсь, то, что ты называешь двойственностью, – лишь маскировка саморазрушения. Знаю: ты сочтешь, что я изменился, ведь я всегда говорил, что величие писателя не зависит от места, где он пишет, и, если писателю есть что сказать, он может высказываться где угодно. Я и сейчас так думаю. Но теперь мне кажется, что писатель не везде находит, что именно ему нужно сказать. Писать можно всюду. Но не везде можно осознать, о чем ты действительно должен написать. Я понял это, когда читал книгу Элимана.
Где бы ты ни был, Файе, надеюсь, ты нашел то, чего не искал. Уверен, это будет прекрасно. Не забудь прислать мне рукопись. Скоро ты получишь мой новый адрес. Шлю тебе привет из своего колодца, друг, и приветствую своего спасителя, который, возможно, станет и твоим: да здравствует Элиман, да здравствует его чертова книга!
Мусимбва
К тому времени, когда я дочитал письмо, мой кофе остыл. Я как наяву видел Мусимбву, который в одиночестве сидит в недостроенном колодце. И дал себе слово написать ему, когда все закончится. Не для того, чтобы поспорить с ним, а просто чтобы сказать, что его решение – глупое, безумное, радикальное и мужественное. Этим письмом Мусимбва бросил мне вызов. Вот каким я был, говорил он, и вот что сделала со мной эта книга. Теперь твоя очередь: покажи, на что ты способен. Я сел в машину и поехал дальше.
II
В нескольких километрах от Фатика я свернул на юго-запад и двинулся в сердце региона Сине. Узкая дорога, вымощенная латеритом, вела в древнее королевство сереров. Недалеко отсюда находилась деревня моих родителей, которая была также и моей африканской колыбелью. На обратном пути, решил я, заеду повидаться с родственниками, которые еще живут там.
С трудом пробираясь по узкой дороге, я задавался вопросом: что же такое могло быть написано давным-давно, чтобы сегодня