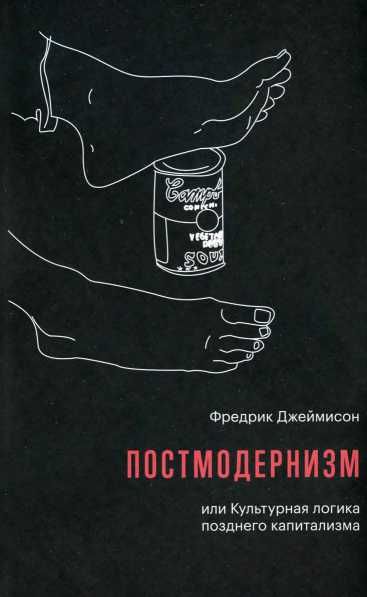Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 158
и знание, реальное бытие и моральную свободу позволяют человеку без отвращения и отчаяния участвовать в игре, где сам он является не столько игроком, сколько игрушкой.
3. Пушкин – наше ничто. Творчество из пустоты
Пустота, жаждущая наполнения, но никогда не утоляющая своей жажды, – один из главных метафизических мотивов, который проводится Синявским в его размышлениях о Пушкине и русском национальном характере вообще. Книга Синявского «Прогулки с Пушкиным» оказалась его вторым, после трактата о соцреализме, постмодернистским манифестом и произвела двойной скандал, поскольку на этот раз к ряду «незначащих знаков» сводилось уже не официальное искусство советской эпохи, а святая святых национального мифа, то, чему предназначалось быть и оставаться первой любовью и вечным спутником народа в годину самых тяжелых испытаний. В восприятии и по поручению своих благодарных потомков Пушкин легко входил в любую роль: певца Русского государства и провозвестника русской свободы, друга царя и друга бунтовщиков, мятежного вольнолюбца и смиренного христианина, народного пророка и сторонника чистого искусства, пылкого любовника и заботливого семьянина, мечтательного романтика и трезвого реалиста. «Пушкин – наше все», – произнес Аполлон Григорьев крылатую фразу. «Пушкин – наше ничто», – мог бы переиначить ее Синявский.
«Прогулки с Пушкиным» (далее – ПСП), которые пересылались письмами жене из Дубровлага в 1966–1968 годах, стали первым и лучшим российским образцом «деконструкции» художественного мира, «постструктуралистским» прочтением классики, свободным от любой методологической натужности, как структуралистского, так и антиструктуралистского толка. Собственно, нет никакой нужды применять к «Прогулкам» поглупевшее от злоупотреблений тяжеловесное понятие «деконструкция». Напротив, можно расширительно обозначить жанр и метод истолкования, предложенный Синявским, «прогулкой» и понять весь постструктурализм как множество разнонаправленных прогулок – с Платоном и Руссо, с Шекспиром и Малларме, со всей классикой и мировой культурой. То, что Деррида впоследствии назвал «рассеянием и осеменением» смыслов в языке (dissemination), а Делёз и Гваттари – «детерриторизацией» (перемещением), у Синявского раньше того выразилось простой формулой «искусство гуляет» (ПСП, 436). И критику ничего не остается, как гулять вместе с художником, то есть постоянно уклоняться от однонаправленного понимания путей искусства. Только нам показалось, что вот оно куда-то ведет, чему-то служит, к чему-то призывает… «Оно все это делает – до первого столба, поворачивает и – ищи ветра в поле» (ПСП, 436).
Отсюда «подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям…». Искусство Пушкина «настолько бесцельно, что лезет во все дырки, встречающиеся на пути», «ландшафт меняется, дорога петляет» (ПСП, 435, 436).
«Прогулки с Пушкиным» оказались одной из самых скандальных книг на русском языке и подверглись остракизму и в кругах русской эмиграции (1975), и после перепечатки на родине (1989). Если до того России был известен Пушкин – золотой классик, «дитя гармонии» (А. Блок), «обличитель тирании, великий патриот и провозвестник светлого будущего» (А. Твардовский) и, в 1970–1980-е годы, «христианин, познавший мудрость смирения» (В. Непомнящий)[228], то в истолковании Синявского Пушкин – пустейший малый, циник и ветрогон, который с самим Хлестаковым на дружеской ноге. Если роман «Евгений Онегин» и есть «энциклопедия русской жизни», то лишь в том смысле, что энциклопедия, как правило, состоит из общепринятых мнений, сокращенных выжимок и цитат – ничего оригинального, своего, «лексикон прописных истин» и «салонное пустословие». Весь роман – попытка уклониться от написания романа, система уверток и «отступлений», где автор, по его собственному признанию (в письме А. Бестужеву), «забалтывается донельзя». Как образно доказывает Синявский, «роман утекает у нас сквозь пальцы… он неуловим, как воздух, грозя истаять в сплошной подмалевок и, расплывшись, сойти на нет – в ясную чистопись бумаги» (ПСП, 383).
И – совсем уже грозное обобщение, где национальная святыня и «наше все» приравнивается к упырю: «Пустота – содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было… Любя всех, он никого не любил, и „никого“ давало свободу кивать налево и направо… <…> В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем… вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто, в сущности, никем не является, ничего не помнит, не любит…» (ПСП, 372, 373). Очень жутко и ново – хотя и вспоминается, что Достоевского восторгала именно «всемирная отзывчивость» Пушкина, который, как никто из мировых поэтов – несравнимо с Шекспиром и Шиллером, – умеет перевоплощаться в характеры и атмосферу других народов. «Ведь мог же он вместить чужие гении в своей душе, как родные»[229] – призрак вампира уже витает над этой благоговейной фразой. То, что у Достоевского звучит беспримерной хвалой, у Синявского – разоблачение гения российской переимчивости, который ухитрился обчистить все закрома европейской словесности, до отвала насытиться чужой кровью. Это ли не творческий вампиризм? И если Пушкин есть откровение о всемирном призвании и отзывчивости русской души, то вывод Синявского отдает еще большим кощунством: как разоблачение кровососной, «подражательной» сущности целой культуры-упыря, разметнувшейся на шестую часть света.
Но если внимательно перечитать «Прогулки с Пушкиным» (1966–1968) рядом с «Голосом из хора» (1966–1971), который одновременно отсылался письмами из Дубровлага, то видно, что «пустота» и даже «вороватость» в понимании Синявского – это не оскорбительное, а скорее лестное качество, необходимое художнику. И если Пушкин – пустейший малый, то и сам автор, уже в отношении собственных опытов, ловит себя на том же состоянии пустоты. «Чтобы написать что-нибудь стоящее, нужно быть абсолютно пустым. <…> Не устаю удивляться тому, как писатель ничего не знает, не помнит, не умеет, не может и этой немощностью своей – всем бессилием высказать что-либо путное – обращен ко всему свету, и только тогда он что-то может и знает» (ГИХ, 603). Для Синявского сам язык есть пустота, точнее, сетка слов, сквозящая пустотой и молчанием. «Абсолютно пустой. Силки, сети. Сетка речи, брошенная в море молчания с надеждой вытащить какую-нибудь золотую рыбку. <…> Писатель – немножко рыбак. Сидит и удит. Ничего не понимая, не думая – положите мне чистый лист, и я из него непременно что-нибудь выужу» (ГИХ, 643, 668). Здесь почти дословно повторяются мотивы книги о Пушкине: писатель, ни о чем не думая, выуживает из чистого листа золотые слова, которые никому не подчиняются и не исполняют ничьих поручений, но, вильнув хвостом по воде, уплывают в море, сходят на нет в ясной чистописи бумаги.
Да, каждый из нас, пользуясь языком, может высказать на нем что-то свое, но ведь язык сам по себе ничего не говорит, он великий немой, и писатель, приближаясь к этому молчанию всего языка, сам немеет, точнее, немыми становятся сами его слова, говоря все обо всем – и ничего в
Ознакомительная версия. Доступно 32 страниц из 158