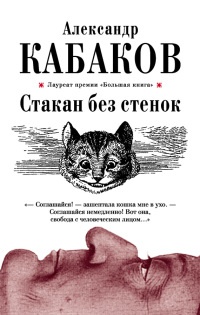Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 98
Силантий, подавив смущение, опорожнял стакан и как-то чересчур поспешно хватался за топор, продолжал обтесывать кругляк. Мужики перемигивались, а мама невидяще смотрела вдаль с какой-то полузабытой усмешкой, обращенной вовнутрь. Потом спохватывалась: стою, а дел сколь?!
Силантий опять отрывался от топора:
— Евдокия, осторожней! — И заботливым взглядом провожал ее, пока она спускалась на землю.
Не знаю почему, но этот заботливый взгляд Силантия раздражал меня, вызывал какое-то внутреннее ожесточение. Я не мог совладать с собой, уходил за плетень, на бруски, которые уже облюбовала местная молодежь, приезжавшая из города на выходные.
В одну из таких минут я встретил на брусках однокашника. Стали перебирать, где кто. Более всех меня интересовал Валерий Губкин, школьной поэт, вундеркинд, впоследствии студент факультета журналистики ДВГУ. Оказалось, что однокашник месяца два назад видел Валерия — он уезжал волонтером на Балканы. Говорил, что потерял вкус к жизни, что его жизнь, словно жизнь Вронского из «Анны Карениной», не стоит ничего и он только рад будет отдать ее в пользу малочисленных, но гордых сербов.
Чувствовалось, что однокашник осуждает Губкина, считает его суперменом чисто российского толка, то есть не ведающим, что творит. А я сразу обрадовался за Валерия, у меня словно пелена с глаз упала.
— А знаешь, — сказал я однокашнику, — меня призывают в армию и я тоже еду добровольцем на Балканы. И тоже буду воевать на стороне сербов, но об этом прошу не распространяться. Мы, волонтеры, в райвоенкоматах подписываем специальную бумагу о неразглашении… — соврал я и, кажется, быстрее однокашника поверил в свою наглую ложь. Во всяком случае, когда с ремонтом избы и изгороди было покончено и во дворе раставили столы с угощением, чтобы отметить это событие, я нисколько не удивился, когда первый тост был поднят за меня как будущего воина, солдата-интернационалиста.
Мама всхлипнула, поднесла фартук к глазам, и сразу встал Силантий, положил руку на ее плечо и как бы от имени всех сказал:
— Только там зазря свою голову не подставляй, не лезь на рожон, но службу сполняй исправно, — помолчал и как бы подытожил: — А мы тут все сообща будем ждать тебя — храни тебя ангел твой. (И уже — всем) Сегодня как раз день его ангела-хранителя.
Все не все, а они с матушкой точно будут ждать, как-то очень остро почувствовал я и в порыве сыновней благодарности расцеловал их и заверил, что так и будет — на рожон не полезу и в свой срок вернусь. Тогда-то мы все сообща, как сейчас, не крышу будем перекрывать, а поставим новый дом.
Гулянка оживилась, повеселела, круто пошла в гору.
Почему согласился с Силантием? Почему сказал о новом доме? Только ли, что пересилил в себе ожесточение?! Нет. Нет. И нет. Потому что никакого ожесточения не было. Да-да, не было. Оно растаяло во мне навсегда в ту самую минуту, когда узнал, что Валерий Губкин уехал волонтером на Балканы. В эту минуту я всем существом своим ощутил, что только там смогу преобразиться для новой жизни — или не смогу, но приобрету нечто более важное, чем теперешняя жизнь. И если маму я расцеловал по причине предстоящего расставания, то Силантия — что превратил это расставание в мои именины. То есть, сам того не ведая, не только объяснил мне мой путь, но и благословил его. Ведь это же благодаря тосту в честь ангела-хранителя вдруг просверком вспомнился повторившийся сон о красивой-красивой тете и сердитом-сердитом витязе, из рук которых я получил цветок-символ, а в реальней жизни — свою ненаглядную Розу. Мой витязь, угодниче Божий Димитрий, руки которого отдыхали на рукояти меча, — это же мне и обо мне привиделось в день моего приезда. И какое уж тут ожесточение?! Оно прошло, растаяло.
Я приехал домой подавленным, а уезжал в приподнятом настроении. Я обрел надежду.
В ночь на второе июня я был в Москве, а утром второго уже стучал в дверь администрации ресторана «Нечаянная радость». Вышел Двуносый сотоварищи — обнялись, похлопали друг друга по плечам.
— Прими наше искреннее сочувствие по поводу утраты жены, преувеличенно скорбно произнес Феофилактович. (В устах трижды разведенного сочувствие воспринималось тонкой иронией и даже издевкой.)
— Ладно, ладно, — сказал я, чтобы соблюсти приличествующую случаю формальность, и тут же перевел разговор: — Однако как быстро сработала почта?!
Феофилактович объяснил, что почта здесь ни при чем, по просьбе Лимоныча «таксистом по лицензии» был у меня сотрудник местного МВД.
— Чего же он все опасался, что я сбегу и не выплачу обещанного гонорара?
— Такой приказ получил, чтобы ты не заподозрил, — сказал Феофилактович, и все вместе с ним засмеялись, дескать, вот как плотно у нас все схвачено.
— Так вы что же… и на Алтае меня пасли? — раздраженно спросил я.
— Нет-нет, мы и не знали, что ты на Алтае! Лимоныч предположил, что ты поехал домой, к матушке, а откуда ты родом?! Может, из Манчестер Сити?
Почему он сказал о Манчестер Сити?! Необъяснимо. Но раздражение сразу прошло.
Феофилактович демонстративно подошел к письменному столу, выдвинул ящик.
— Вот заявление… уже хотели подавать в розыск.
Заявление было написано красивым женским почерком на листке из ученической тетради.
— Так и есть… еще и посторонних людей подставляете.
— Никаких не посторонних, — подал голос Тутатхамон. — Моя сама по своему желанию написала, а я принес…
— А-а, дак ты не знаешь?! — восхитился Двуносый. (Он как-то враз перестал походить на Феофилактовича — тот же костюм, тот же галстук, а солидности — никакой.) — Помнишь вахтершу Алину Спиридоновну? Они расписались, теперь Тутатхамон у нас женатый человек. Мы уже и свадьбу сыграли, с презентацией ресторана совместили, народу было… весь цвет (поправился), весь бомонд города!
Представив, как Аля и Тутик (не может же она называть его Тутатхамонище) обсуждают мое исчезновение, я только и нашелся что сказать:
— Поздравляю, не ожидал, даже не верится!..
Однако мое поздравление не обрадовало бывшего сантехника, загундосил, мол, а что тут такого — не ожидал, подумаешь… Чтоб не начинать с ним свары, я попросил Двуносого показать ресторан.
Ресторан, конечно, был роскошным: от гардероба и туалетов до залов для посетителей и кухни — евроремонт. Изящество обоев и зеркал, кресел и столов, бра и подсветок не вызывало сомнений.
— А как же зал Поэзии или кают-компания данного судна? — сказал я, глядя вниз, с антресолей, на алмазно сияющую чашу люстры.
В мгновение ока Двуносый опять стал Алексеем Феофилактовичем. (Остановился, застегнул костюм, поправил галстук и решительно шагнул в глубину холла, к бордовой бархатной портьере, закрывающей торцовую стену возле подиума для оркестра.) Он нажал какую-то кнопку, бархат легко сдуло в сторону, и на стеклянных дверях я увидел хорошо известное мне изображение чайного клипера «Катти Сарк» в русском исполнении, то есть — словно гриновский «Секрет», летящий на алых парусах.
Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 98