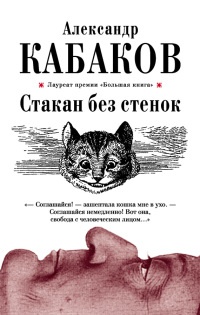Глава 1
Однажды глубокой февральской ночью (я всегда писал свои стихи и пьесы ночью, а днем отсыпался) мною овладело тягостное уныние. Причиною стали галлюцинации, которые поначалу как-то даже забавляли, скрашивали мою монотонную одинокую жизнь. Засмотришься на пожелтевшую, потрескавшуюся от времени столешницу, и вдруг как бы из ее недр, словно на скатерти-самобранке, является взору столовский поднос, уставленный большими тарелками с горячими блюдами. Тут тебе и домашние щи, и дымящаяся в томатном соусе баранина, и кофе со сливками. Причем все настолько живо, что в щах можно было рассмотреть, и я рассматривал, плавающие колечки поджаренного лука, а на баранине — сочную зелень молодой петрушки. (Согласитесь, превесьма соблазнительные иллюзии для человека, денно и нощно голодающего не по прихоти, а по беспросветности…)
Созерцая столь великолепные подарки воображения, как правило, за полночь; постепенно стал подготавливаться к ним. То есть на то место, на котором чаще всего взор мой обессмысливался и цепенел, я еще до полуночи клал ложку, вилку, столовый нож и ставил какую-нибудь пустую бутылку из-под боржоми. Графинчик и рюмочку — не ставил. (Такое роскошество позволил лишь раз, на день рождения, а наутро ужасно сожалел — голова буквально раскалывалась, а желудок схватывали такие спазмы, какие обычно случаются после страшного перепоя.)
В общем, подготавливался с воздержанностью, чтобы потом не сожалеть, и в то же время, чтобы чувствовать себя достаточно свободным в выборе как меню, так и музыкального оформления, каким он оснащался.
Что это такое — свободный выбор… и музыкальное оформление? Это песня! Да-да, песня, потому что в результате подбора и сочетания, казалось бы, простых кухонных предметов я, подобно профессору магии, в конце концов овладел искусством вызывания почти предсказуемых галлюцинаций.
Конечно, я испытал множество вариантов и вариаций, прежде чем остановился на определенных, наиболее соответствующих моим наклонностям. В силу своей профессии я не люблю шумных компаний, в них всегда присутствует не то чтобы разнузданность, но какая-то внутренняя разухабистость. Чаще всего я выбирал отдельный кабинет, стол, накрытый белоснежной скатертью, два серебряных прибора и скрипача в черном фраке и цилиндре. Откровенно говоря, скрипач меня развлекал не столько музыкой, сколько своим поведением. Играя полонез Огиньского, он всегда так преувеличенно выпячивал грудь, так наступал на соседа по столу, что тот вынужден был раз за разом уклоняться вбок, чтобы не пролить из ложки. Но и здесь верткий музыкант не терялся, ловко обегал его и уже с другой стороны наседал на беднягу.
В конце концов сосед откладывал ложку, доставал из нагрудного кармана розовый шелковый платочек и, прикладывая к глазам, растроганно повторял:
— Не могу, не могу, чтобы так душещипательно!
Чуть-чуть сменив угол зрения, я отдалял скрипача в центр зала, и сосед, опасливо оглядываясь, опять брался за ложку.
— Не могу, не могу, чтобы так… — продолжал он бубнить над ухом, но я не отзывался.
Чтобы не нарушать подконтрольность галлюцинации, я всегда вынужден был действовать в строго очерченных рамках. Наверное, покажется странным, но лиц соседа, скрипача и официанта я никогда не видел. И в то же время совершенно точно знал, что мой сосед — пожилой чопорный англичанин, интеллигентный и весьма, весьма денежный. (Он иногда уходил из-за стола раньше меня, и я собственными глазами видел, какие крупные чаевые в долларах он оставлял.)
Официант, конечно, был сделан в СССР. И вовсе не потому, что я помнил штамп завода-изготовителя на алюминиевой чашечке абажура. В глаза бросалась лакейская услужливость перед иностранцами, свойственная тем достопамятным временам. Долговязый и неуклюжий, в знак высочайшей почтительности он, изгибаясь в поклоне, нависал над столом так, словно хотел поцеловать англичанина непосредственно в макушку. Пренеприятнейшая услужливость, даже сейчас слышится его паточно-приторный голосок: товаришочки, чего изволим-с?!
О скрипаче ничего не скажу, но подозреваю, что вместе с официантом они делили чаевые и, очевидно, как глава предприятия официант брал больше. Во всяком случае, однажды я стал свидетелем красноречивого диалога:
— Позвольте-позвольте, а где мои — за двойной полонезик?!
— Не знаю, не знаю, Гога-товаришок, все у вас. (Сладостно-ядовитое.) Поищите в дырочке под подкладочкой.
— Но позвольте, как же-с, ведь был двойной полонезик?! (Начальственно-сердитое.)
— Дак хоть бы и тройной!.. А за инструмент?! (Назидательно-наставительное.) Не забывай, Гога-товаришок, что на такую Стради мигом сыщу нового музыкантика…
Отдельный кабинет меня устраивал еще и потому, что я овладел искусством не только раздвигать его стены, но и перемещаться вместе с ним, словно в машине времени. Находясь в кабинете и оставаясь невидимым для окружающих, я мог присутствовать на любой пирушке и даже свадьбе. Особенно я любил — нашу с Розочкой.