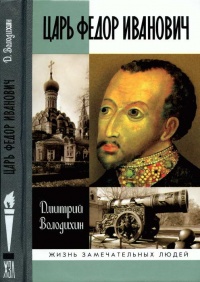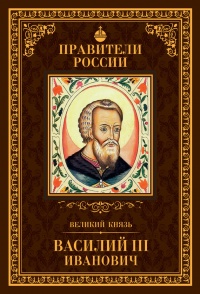Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 112
Дом Соколовского на углу Госпитальной и Бульварной улиц был куда ближе к дому Полубояринова на углу Оранжерейной и Средней, но ежедневные встречи царскосельских Дафниса и Хлои остались в прошлом. Однако, получив упомянутые приветные весточки, Гумилёв, тяготясь разлукой и, конечно, «томясь безосновательной, но жгучей ревностью, подобно тому, как благородная сталь военного меча разъедается ржавчиной в холодной сырости старых подвалов»[253], всё же, вплоть до Пасхи, никак не выказывал беспокойства. Разумеется, он знал о болезни Инны, и, подобно домашним Ахматовой, не видел ничего странного в том, что забота о любимой сестре на время затмила для неё всё на свете. Опустевшие дни он коротал у однокашника по гимназии Курта Вульфиуса, сына смотрителя царскосельских уделов. Дом Вульфиусов на Малой улице был симпатичным, литературным – мать семейства являлась родной дочерью прославленного писателя графа Соллогуба, друга Пушкина и Белинского. По субботам были журфиксы, но часто и запросто Екатерина Владимировна и её многочисленное потомство – Анатолий, Александр, Николай, Михаил, Нина и Нелли Вульфиусы – просили гостя прочесть, «что написали нового». Гумилёв, не жеманясь, читал стихи с удовольствием, срывая аплодисменты. В прочее время он пристрастился играть с картёжным виртуозом Куртом в «винт». «Они играли запоем, как говорится, до потери сознания, – вспоминал Анатолий Вульфиус. – Если не было партнёров, они играли вдвоём в так называемый гусарский винт».
У Вульфиусов на Малой Гумилёв проводил первый день пасхальных каникул, 18 апреля, когда разговор за карточным столом вдруг съехал на фривольные слухи, идущие по городу об одной примечательной мариинской гимназистке.
О мотивах, подвигнувших Курта Вульфиуса к подобной беседе, можно лишь гадать.
Возможно, он не был осведомлён о личной заинтересованности своего приятеля в судьбе Ахматовой и просто пересказывал животрепещущую сплетню, о которой говорили все.
Возможно, напротив, он был очень хорошо посвящён в дела Гумилёва, а новость была такова, что Вульфиус посчитал за благо донести её до друга сам.
Возможно, имело место желание «раскрыть глаза» Гумилёву на подлинное положение вещей.
Высказывалось даже мнение, что Вульфиус тоже был влюблён в Ахматову и потому видел в Гумилёве «товарища по несчастью».
Гумилёв вспылил так, что вслед возникло решение о немедленном поединке.
Постановили встретиться через час у Николаевской гимназии и ехать затем по Виндавской дороге в местечко Вырицу для сведения окончательных счётов. Гумилёв, не теряя времени, вызвал с Бульварной Андрея Горенко. Тот, очень расстроенный, согласился быть секундантом. У гимназии обоих поджидали Курт Вульфиус и ассистирующий ему какой-то хмельной студент, начинавший трезветь и проявлять явные признаки беспокойства. В руках у Вульфиуса были рапиры, тайно изъятые из спортивного гимназического зала. Свернув в ближайший двор оба врага вместе с помощниками сбили булыжниками защиту наконечников и принялись ожесточённо оттачивать острия. Студент, всё время пытавшийся подшучивать то над одним, то над другим, совсем потерялся и запросился в отлучку. На него не обращали внимания, кое-как обернули орудия убийства в тряпки и газеты и направились к вокзалу. Поезд уже подходил, когда на перрон выскочил Дмитрий Гумилёв. Заметив среди отъезжающих пассажиров брата и его спутников, он со всех ног побежал к ним, маша руками и призывая:
– Стойте! Стойте!! Директор зовёт вас к себе! Директор зовёт вас к себе!..
После свирепой головомойки у Иннокентия Анненского Андрей Горенко привёл Гумилёва на Бульварную. Там были Ахматова с Инной Эразмовной и состоялось объяснение, сразившее Гумилёва, куда хуже дуэльной рапиры. «Потрясённая и напуганная» Ахматова «рассорилась с ним, и они перестали встречаться», а её «встревоженная» мать вдогонку тут же отказала от дома. Помимо того, из разрозненных ахматовских заметок можно понять, что Гумилёв «задыхался от чёрной ревности, сводившей его с ума», припомнил роман Киплинга («“она Мейзи, ей всё можно” – говорил из “Свет погас”») и заявил о своём решении «больше не жить, если я не уеду с ним (на Пасхе 1905)».
Вернувшись затем к себе на Среднюю, он в сердцах действительно схватился за какое-то домашнее оружие, ружьё или пистолет, но брат Дмитрий был начеку, да и весь дом находился в тревоге. По крайней мере, если бы «попытка самоубийства», о которой говорит Ахматова, была как-то осуществлена практически – Гумилёв точно решением срочно созванного Педагогического совета вылетел бы из Николаевской гимназии, несмотря на заступничество директора. А так, терпеливо выслушав разгневанных учителей, Иннокентий Фёдорович, сокрушенно покивав головой, веско произнёс:
– Всё это так, господа, но ведь он же пишет стихи!
Анненский взял Гумилёва на поруки, под собственную ответственность. Куда меньше повезло Курту Вульфиусу, которого директор считал главным виновником прискорбного происшествия («Вульфиус, какая же Вы дрянь!»), и которому, пришлось покинуть гимназические стены[254]. А в Царском Селе, по свидетельству его младшего брата, «долго смеялись, вспоминая рапиры»[255].
Вспоминали, разумеется, не только рапиры. Все участники несостоявшейся дуэли единодушно утверждали, что единственной причиной поединка явилась карточная ссора, но их упрямое запирательство было секретом Полишинеля. О скандальной связи малолетней «луначики» с записным сердцеедом и любезником уже несколько недель толковала «вся Флоренция». И очень вероятно, что как раз на Пасху «средняя Горенко» устроила некую недвусмысленную публичную выходку, доведя градус пересудов до самого высшего уровня. Ничем иным нельзя объяснить категоричную резкость суждений, прозвучавших в дружественном Гумилёву доме Вульфиусов. А резкость была такой, что он был вынужден вызывать приятеля на поединок немедленно, без объяснений, в оскорбительной форме. Вряд ли Гумилёв, обычно хладнокровный, ироничный и явно не склонный к публичным скандалам в гостях, стал бы сразу так горячиться, сморозь закадычный партнёр по висту нечаянную глупость или двусмысленность за карточным столом. К друзьям он относился с «огромной нежностью и трогательностью» (С. А. Ауслендер), и, наверняка, смог бы тактично поправить оплошность, не прибегая к немедленной угрозе смертью.
Но в апреле 1905 года по адресу Ахматовой в царскосельских разговорах уже свободно употреблялись такие слова и выражения, которые среди приличного общества смываются только кровью. Однако кроме Гумилёва (которому также досталось от местных сплетников) охотников вступиться «за честь дамы» не находилось. А что же Голенищев-Кутузов? В разразившийся на Светлой седмице скандал, как в разверзшийся водоворот, оказались вовлечены: Ахматова, её мать и брат, оба брата Гумилёвы с домочадцами, Иннокентий Анненский со всеми членами Педагогического совета Николаевской гимназии и даже (пострадавший, в какой-то мере, больше всех) Курт Вульфиус, фигура совсем посторонняя и случайная. Но главный-то герой, из-за которого, собственно, водоворот и возник, как… в воду канул. Возможно, «заезжий венецианец» перед Пасхой вновь убыл по делам? Тогда вполне уместно предположить, что во время проводов Ахматова, не помня себя от волнения, и выкинула на людях какой-то такой «номер», который всколыхнул всех царскосельских сплетников и дал импульс последующей катастрофе…
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 112