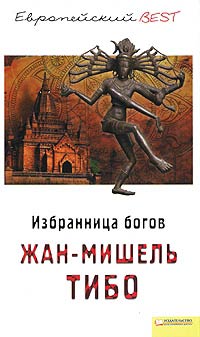Он сделал паузу, ожидая от меня комментариев. Не дождавшись ничего, он сбросил маску притворного сочувствия.
— Ты настоящее клеймо, которое не дает грехам прошлого умереть, исчезнуть непрощенными. Нет, не ты. Как только ты узнала, что отец твоего ребенка мертв, ты обозлилась, потому что смерть лишила тебя возможности отомстить. Я подозреваю, ты забрала девочку, потому что хотела наказать ее за собственные грехи. Одному Богу известно, какие еще козни ты бы подстроила, если бы мы тебя не поймали. Когда мы вернем тебя в монастырь Святого Захарии, будь покойна, больше тебе сбежать не удастся.
Значит, так и есть. Мои худшие страхи подтвердились. Меня снова хотели похоронить заживо в монастыре. Пока Главный мрачно смотрел в окно, я гадала, что им от меня нужно, почему я до сих пор не прикована к кровати в монастырской келье.
Внезапно я поняла, что они, вероятно, ищут Певенш. Им хочется умиротворить английских бандитов — следуя его логике, передав девочку опекуну. Похищенная английская девочка в Венеции может создать трудности. Пока я молчу, они не упекут меня в монастырь. Надо придумать какой-нибудь план, сбить их с толку, потому я прошипела:
— Очень странно, что в этом городе показной набожности каждый считает худшей пыткой жизнь, проведенную в служении Богу.
Он резко махнул рукой, но в последнюю секунду овладел эмоциями. Его не интересовали мои наблюдения, если только они не в состоянии прояснить ситуацию.
Я молчала. Я знала, что если заговорю о Певенш, то тем самым вырою себе могилу.
Потому я защищала этот секрет. Ему стало скучно, и он приказал запереть меня.
Я легла на доску в камере на первом этаже и принялась слушать нетерпеливый шорох крыс. Несмотря на убогую обстановку, я была рада, что осталась одна. Мне слишком многое надо было осознать и принять. Я представила Певенш, довольно храпящую в удобной келье монастыря Сант-Алвизе, и попыталась вызвать в себе какие-нибудь материнские чувства. Конечно, лучше, когда есть живой ребенок, пускай и такой, как Певенш, чем вообще никакого. Правда состояла в том, что я не чувствовала ничего, кроме шока. Я так скучала по объятиям Валентина Грейтрейкса. Он был моей семьей, домом, убежищем. К Певенш я не чувствовала ровным счетом ничего.
Нельзя стать матерью, просто получив сообщение о том, что у тебя есть ребенок. Но когда мой любовник узнает правду, не оттолкнет ли это его? Учитывая его собственные смешанные чувства к девочке, его отношение ко мне может кардинально измениться.
Потом я горько рассмеялась, поскольку подобные рассуждения о будущем не имели никакого смысла. Если я не буду сотрудничать, моим бывшим нанимателям будет невыгодно сохранять мне жизнь, несмотря на угрозу монастырем. Для них меня уже не было. Им не составит труда избавиться от меня и сложить все бумаги, касающиеся моей жизни, в архив.
Я вспомнила с замиранием сердца, что им тем более легко меня убрать, ведь для мира Катарина Вениер уже давно мертва и похоронена возле семейного склепа на Джудекке.
2
Припарка из паутины
Берем венецианский терпентин, две унции; сок подорожника, полторы унции; фиги, три штуки; желтую апельсиновую кожуру, две драхмы; пилюли, полторы драхмы; сажу, пол-унции; голубиный помет, полторы унции; паутины большого паука, шесть штук; черное мыло, четыре унции; достаточно уксуса, чтобы все это связать воедино.
Служит для борьбы с малярией. Следует прикрепить к запястьям так крепко, чтобы давило на артерии за два часа до приступа.
Окошко моей камеры выходило на малолюдную улицу. Вероятно, она была перекрыта с двух сторон. Я слышала плеск волн и чувствовала запах, однако канал не был виден, не считая слабых отблесков воды, которые иногда проникали в камеру. Я лежала на доске и наблюдала за контурами световых бликов. Это были мои истории, мои пьесы и мои песни, с которыми я коротала долгие часы.
Мне позволили помыться и принесли свежую одежду. Каждый день я прикрепляла к шемизетке толстый передник. С ним было легче лежать на жесткой доске. Мой живот постоянно болел и страдал от различных расстройств. Ужасная баланда, которую мне давали, не улучшала его состояние.
Я видела, как с волос сходит краска, а кожа обтягивает кости из-за дурного питания. Каждый час я ожидала, что меня поведут к петле либо появятся женщины с суровыми лицами, вооруженные бутылкой и трубкой. Я постоянно переживала собственную смерть, пока наконец жизнь не начала казаться мне какой-то другой реальностью.
Конечно, мне и прежде приходилось томиться в заточении. Разница состояла в том, что на этот раз я успела познать радости жизни, как с Валентином, так и, следует признать, с Дотторе Веленой и Зани. Воспоминания о былой жизни делали пребывание в застенке поистине невыносимым. Несмотря на все их недостатки, каждый из этих мужчин обладал определенной благопристойностью. Они все поделились со мной человеческой теплотой, которой мне так не хватало теперь. Она была нужна мне больше, чем еда, свет и воздух.
Я начала разговаривать с ними, крепко закрыв глаза. Я использовала мастерство актрисы, чтобы изображать их ответы. Даже Зани играл определенную роль в этих забавах. Когда я засыпала, то иногда сворачивалась клубком, как будто снова была в «Фезерз», а если мне снились сны, то они были о Лондоне. Либо кошмары о Лондоне, приправленные венецианскими воспоминаниями.
Мне хотелось джина, но его не было. Я была удивлена, какое облегчение мне принесли мои размышления и фантазии. Без джина было сложно уснуть, меня мучили кошмары.
Однажды мне приснился сон, который был связан с одной историей, услышанной мной на Бенксайде. Зани вбежал в «Фезерз», сообщив новость, что пекарь избавился от назойливой помощницы, толкнув ее в печь, когда та была разогрета до предела. Во сне Лондон исчез, и я снова очутилась среди огромных печей в кухне монастыря Святого Захарии. Меня окружили безликие монахини и, не слушая моих криков, принялись сдирать с меня одежду. Когда я была полностью обнажена, они облили меня оливковым маслом и завернули голову в муслин, словно какой-то пудинг. Дрожа, я почувствовала, как они хватают меня за руки и ноги и поднимают. Я ощутила приближение жара. Я услышала, как со скрежетом распахнулись дверцы печи. Я закричала, а они принялись запихивать меня в печь. Пламя пожирало меня, пока не осталась лишь обугленная зола. Муслин тоже сгорел, разделив мою незавидную участь.
Это был сон без звуков. В оглушающей тишине я видела и чувствовала, как плоть отваливается от костей. Я проснулась, задыхаясь и плача. В окошко камеры проникали первые лучи утреннего солнца. Реальность мало отличалась от кошмара. Мне казалось, что это будет мой последний рассвет. В монастыре меня ожидала такая же судьба, как и во сне. Когда они отдадут меня монахиням, ничто не сможет уберечь меня от их мести.
Этот сон всколыхнул во мне всю боль, все обиды, которые я пережила. Я плакала, вспоминая, как родители бросили меня, как отец моего убитого ребенка… нет… как отец Певенш унижал меня. Все эти воспоминания начали мучить меня с новой силой. Вспомнились и другие горести, о которых, как я считала, я давно забыла. В один из дней десять лет назад Маззиолини пришел ко мне с деревянной гравюрой работы Андреа Брустолона,[21]изображавшей трех закованных в кандалы невольников, поддерживающих мраморную столешницу. Их остекленевшие глаза казались мне странно знакомыми. Я вспомнила, что видела эту гравюру в одной из приемных во дворце родителей, она была высотой в человеческий рост.