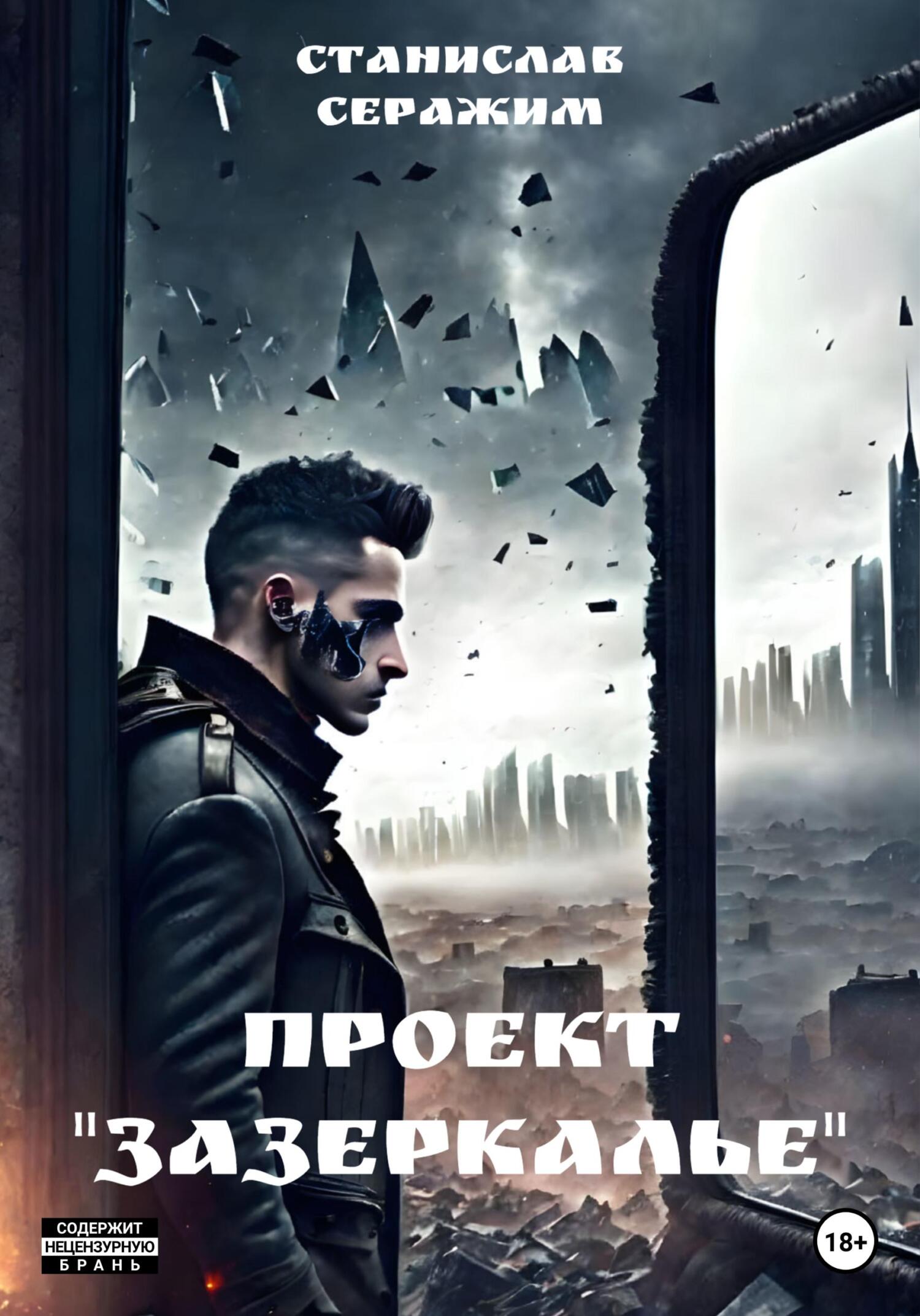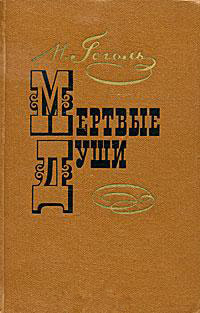гарнизону такое не грозит, тут добрая половина давно тронулась умом, что меня угнетает. Я смертельно устал от психов (еще больше – от самого себя), будь моя воля, впрямь поселился бы в центре Сахары или в сибирской тайге. Прочь от людей, чьи извилины в любой момент могут выпрямиться, превратив человека в зомби! Каждый из нас – мина замедленного действия, и когда она рванет – одному богу известно. Или дьяволу? А-а, все это чушь, бог, дьявол – всего лишь плоды больной фантазии, говоря языком психиатрии: симптомы-синдромы.
Выйдя во двор, вижу полуголого парня со смуглым мускулистым торсом и раскосыми глазами, что методично долбит кожаную грушу, подвешенную к толстому дубовому суку. На смуглого пялится худосочная девушка в нелепом зеленом дождевике. Мы тут все с приветом, но такой наряд в солнечную погоду – чересчур! Удары по груше затихают, когда внутрь въезжает запыленная «буханка»; оттуда вылезает мужик в клетчатой рубашке и сразу запирает ворота. Жаль, не удается разглядеть – там пустыня? Непролазная тайга? Открывается задняя дверца, оттуда вынимают большие пластиковые пакеты, их разбирают те, кто что-то жарит-парит под навесом.
Похоже, где-то в глубине тайги или выжженной пустыни имеется склад, откуда завозят макароны-рис-картошку-мясо-котлеты-куриные окорочка, из коих готовят жратву разной степени вонючести. Половина гарнизона колдует на кухне, продуцируя запахи, зависающие в знойном воздухе подобно боевым отравляющим веществам: вот запах мясного бульона плывет, вот подгоревшее масло шибает в нос, а тут чеснок добавляют в борщ, и без того напичканный приправами. Далее вторая половина гарнизона зазывается под навес, где расставлено полдесятка деревянных столов. Как тут забудешь тело, если не мытьем, так катаньем усаживают за стол и запихивают в твое нутро плоды кулинарного колдовства?! Тело подводит: тебя (твою душу?) тошнит, а рот, язык, желудок перемалывают пищу да еще просят добавки.
А потом опять круги по двору, опять удары по груше, и солнце, бьющее в темечко. Чтобы не слепило, смотрю под ноги и вдруг вижу тень, что возникает рядом. Поднимаю глаза – ого, сам хозяин форта! Круглолицый, плотный, в защитного цвета куртке и штанах, короче, соответствует роли.
– Как дела, Максим? – спрашивает. – Продолжим работу?
Напоминание о работе переносит туда, где стоят мольберты и бюсты и где время сгущается, будто охлажденный кисель. А сгустившееся время – это больно. Пройдя стадию киселя, оно отвердевает, холодеет, превращаясь в жесткий зеркальный лед, и ты, рухнув, разбиваешься об него в кровь. В окровавленном зеркале отражается твое неказистое прошлое, мрачное настоящее, да и будущее (похоже – чудовищное). Или судьба Максима-Хайда отражается в зеркалах, развешанных по стенам? В общем, я напрягаюсь, и меня хлопают по плечу.
– Ладно, до вечера время есть, соберись. Если хочешь – прогуляйся, за ворота выходить не запрещено. Только сопровождающего подыщи.
Разрешение выйти в пустыню (тайгу?) энтузиазма не вызывает. Страх окутывает тело, душу – всю мою сущность, каковая не хочет за ворота, норовя слинять даже отсюда, с безопасного и защищенного двора. Когда-то меня в сердцах обозвали йети, то есть снежным человеком. Реликтовый гоминид (если условиться, что он существует) – дик, одинок, а главное, тщательнейшим образом избегает собратьев по разуму, уходя от них высоко в горы или в лесную чащобу. Так вот я и есть реликт, сознательно отделившийся от мира. Да еще жалкий и трусливый, даже собачьего воя боюсь. Что сделал бы подлинный йети с ничтожным Цезарем?! Порвал бы на лоскуты, а меня из-за шкафа ночью вытаскивали!
До вечера отлеживаюсь, отвернувшись к стене. Встаю, когда солнце касается кромки забора, и приближаюсь к окну. В центре двора та же девушка в дождевике, только теперь на голове капюшон, похоже, в ее мире начался тропический ливень. Каратист отдыхает, присев у древесного ствола, Джекил курит рядом с летней кухней. Выйди – окажешься под перекрестными взглядами, как под огнем, еще и общаться придется. Решившись на выход, по сторонам не смотрю, быстро двигаюсь к сараю, чтобы вскоре за ним скрыться. Обхожу строение, ага, вот и мастерская. Заходить сюда тоже не запрещено, а тогда…
Свет выключен, тут царит полумрак, лишь таинственно мерцают зеркала: где бы ни встал, неизменно увидишь отражение, причем не только свое. Если долго вглядываться в мерцание амальгамы, начнут проявляться смутные абрисы тех, кто за нами наблюдает. Давно наблюдает, пристально, даже странно, что мы им не надоели и нас не стерли с лица земли. Наверное, мы чем-то любопытны, как нам любопытны гады в террариуме. Чтобы не выглядеть гадом, я завешивал зеркала, затем бросил – буквально каждая блестящая поверхность служила замочной скважиной из инобытия. Я лишь мысленно вопил: «Эй вы! Заберите меня отсюда, сил нет лицезреть отстой, что царит вокруг!» А зазеркалье загадочно усмехалось: «Нетушки, сам ищи способ убраться из падшего мира. Найди заветное игольное ушко, просочись туда, где жизнь совершенна и прекрасна!»
Но пока вместо совершенства зеркало показывает моложавую женщину: стильная, эффектно накрашенная, та жестко произносит: «Не смей издеваться над сестрой, животное!» И смотрит на меня с отвращением, как на какого-нибудь таракана. А это что? Девушка (кажется, Аня) выходит за порог и, обернувшись, внезапно произносит: «Думаю, нам не нужно встречаться». Как, почему?! Но девушка Аня не объясняет, она быстро спускается по лестнице, махая рукой: не нужно, не нужно! Вот еще картинка: друзья-сокурсники, странно на меня поглядывая, дружно покидают аудиторию, где я делал доклад. Он проходил при гробовой тишине, молодые философы, казалось, внимательно слушали, но в финале – ни аплодисментов, как обычно, ни вопросов, лишь испуганное недоумение. «Н-да, даже мне такого не понять…» – бормочет преподаватель по прозвищу Штрихкод и предлагает взять академический отпуск. Мол, налицо переутомление, надо бы годик отдохнуть, а когда выправишься – экстерном курс пройдешь! Вот оно – сгустившееся и замерзшее время, что колет тебя ледяными иголками и заставляет поскальзываться и грохаться со всего маху на лед. Не хочу такого прошлого! Дайте другое время, теплое, мягкое, где можно дышать полной грудью и купаться в любви окружающих!
Только не дают! Хозяин форта утверждает: надо (кровь из носу!) пройти эту полосу препятствий, не отворачиваться от своих травм и сквозных душевных ран. Он даже наблюдателей с Бетельгейзе не гонит прочь: пусть живут в воображении, это не страшно, главное – опознать себя. То есть уловить в мерцании амальгамы свою сущность, а чтобы та не ускользнула – поймать ее и удержать. Вон вокруг сплошь средства ловли человеческих душ: мольберты, краски, пластилиновые бюсты… Значит, хозяин форта – ловец человеков? Выходит, так; жаль, дырявая память не помнит, кто и когда