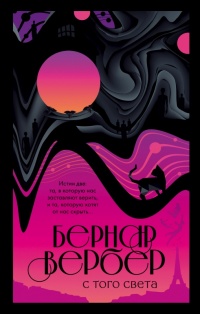То были странные дни. Ольга провела с Бостом большую часть своих каникул в маленьком густонаселенном отеле, выходившем на Старый порт Марселя; она занимала номер, выложенный красной плиткой, весьма жалкий, но наполненный солнцем и радостными шумами; там мы с ней и встретились. В Марселе я оставалась на двое суток, и мы с рюкзаками на спине, сначала автобусом, потом пешком отправились в Нижние Альпы. Ольга порой сердилась, когда мы карабкались на какую-нибудь гору, и даже колотила по ней палкой; однако она, как и я, любила бескрайние пейзажи из белого камня и красной земли, любила собирать на дорогах, где пахло лесными зарослями, лопнувший инжир и взбираться по уступам улиц старых, взгромоздившихся на высоты деревень. Вдоль тропинок она собирала пахучие травы, из которых вечером на постоялом дворе, где мы останавливались, она готовила забавные бульоны. Между тем на каждом этапе я бежала на почту до востребования. 20 сентября в Пюже-Тенье я получила от Сартра довольно оптимистическую телеграмму. Но 25-го в Гапе он предлагал мне немедленно возвращаться в Париж; помню, какая паника меня охватила в этой мрачной префектуре с нависшей над ней предгрозовой жарой. В поезде я в ярости корила себя за свой слепой оптимизм и пристрастие к исполнению своих планов. Когда я приехала в Париж, газеты пестрели заголовками: «Тревожное время». Призвали резервистов второго и третьего эшелонов. Ультиматум Гитлера требовал, чтобы Прага сдалась в течение шести дней. А Прага оказывала сопротивление. На этот раз война казалась неминуемой. Я отчаянно отказывалась в это верить; такая дурацкая катастрофа не могла на меня обрушиться. Помню, как в «Доме» я встретила Мерло-Понти, с которым не виделась со времени нашей стажировки в Жансон-де-Сайи и с которым в тот день у меня состоялся долгий разговор. Разумеется, говорила я ему, Чехословакия вправе возмущаться предательством Англии и Франции, но что угодно, даже самая жестокая несправедливость, лучше, чем война. Моя точка зрения показалась ему, как и Сартру, недальновидной. «Нельзя бесконечно уступать Гитлеру», — говорил мне Сартр. Но если разум склонял его принять войну, то он все-таки восставал при мысли о том, что она может разразиться. Мы провели мрачные дни; часто ходили в кино и читали все выпуски газет. Сартр делал усилия над собой, пытаясь примирить свою политическую мысль с личными порывами, я же пребывала в полной растерянности. Внезапно буря удалилась, так и не разразившись, было подписано Мюнхенское соглашение; я не испытывала ни малейших угрызений совести, радуясь этому политическому шагу. Мне казалось, что я избежала смерти, причем навеки. Было даже в моем облегчении что-то торжествующее; я определенно родилась в сорочке, несчастье не настигнет меня никогда.
После Мюнхена глаза у меня открылись не сразу; напротив, война отодвинулась, и я вновь обрела веру в будущее. Относительно значимости мира, который нам пожаловали, мнения левых разделились. Хотя часть коллектива «Канар аншене» прежде осуждала невмешательство, газета ликовала. «Эвр» колебалась. Еженедельник «Вандреди» был так расколот, что отказался от политической роли: под названием «Рефле» он замкнулся на вопросах культуры. Жионо, Ален упорно настаивали на абсолютном пацифизме. Большое число интеллектуалов повторяли вслед за ними: «Демократические силы объявили миру мир». Имел хождение и другой лозунг: «Мир работает на демократические силы». Коммунисты голосовали против Мюнхенских соглашений, но не могли же они до бесконечности твердить о своем возмущении; им следовало идти вперед и — каковым бы ни было их личное убеждение — сделать обязательным в партии нескрываемый оптимизм. Они предписывали Франции изменить свою внутреннюю политику, заключить соглашение с СССР, укрепить национальную оборону, противопоставить гитлеровскому шантажу неопровержимые доказательства твердости: они проповедовали эту программу с жаром, возрождавшим надежду. Так, одни считали мир спасенным, другие указывали средства добиться его: никто не запрещал мне в него верить.
Едва восстановив внутреннее спокойствие, я сразу же вновь взялась за работу. Я вручила Брису Парэну отпечатанные на машинке первые сто страниц моего романа, то есть детство Франсуазы, он счел их хуже моих новелл, и Сартр разделял это мнение. Я решила принять как данность прошлое моей героини, ее встречу с Пьером, восемь лет их взаимопонимания: повествование начиналось с того момента, когда в их жизнь входит чужая. Я составила общий план: появление трио, раскрытие сознания Ксавьер, ревность Франсуазы, ее ошибка; она коварно вмешивалась в отношения Пьера и Ксавьер; та подавляла ее своим презрением, и, чтобы защитить себя, Франсуаза ее убивала. Это было слишком прямолинейно.
Сартр дал мне один совет. Чтобы подчеркнуть, насколько Франсуаза дорожила своей счастливой жизнью с Пьером, неплохо будет, если в первой главе романа она чем-то пожертвует ради него. Я ввела Жербера: несмотря на его молодость и очарование, она отказывается от него. Позже, когда он добился любви Ксавьер, она падала в его объятия: именно эту измену она устраняла убийством. Интрига, обогащаясь, укреплялась, я могла определить точную роль Элизабет, фигура которой интересовала меня и сама по себе.
Я соблюдала правило, которое мы с Сартром считали главнейшим и которое чуть позже он изложил в статье о Мориаке и французском романе: в каждой главе я перевоплощалась в одного из моих героев, я запрещала себе знать и понимать больше, чем он. Обычно я принимала точку зрения Франсуазы, которую с помощью сложных транспозиций наделяла собственным опытом. Она почитала себя чистым сознанием, единственным; она и Пьера присоединила к своей суверенности: вместе они пребывали в центре мира, который, в силу предопределенной миссии, ей следовало разгадать. И вот расплата за эту привилегию: смешиваясь со всем, она в собственных глазах не имела определенного лица; прежде, когда я сравнивала себя с Зазой, мне тоже знаком был этот недостаток. В моем первом романе мадам де Прельян с высоты своей умудренности с сожалением смотрела на слезы, заливавшие лицо Женевьевы; так Франсуаза смутно завидовала на танцплощадке несчастью, заставлявшему дрожать губы Элизабет, и восторгам Ксавьер. Ее гордость омрачала печаль, когда во время празднования сотого представления «Юлия Цезаря» она говорила себе: «Я — никто»[84]. Оказавшись однажды на отшибе, вдали от Пьера и Ксавьер, она безуспешно искала помощи у себя самой: у нее буквально не было собственного «я». Она была чистой прозрачностью, без лица и индивидуальности. Позволив вовлечь себя в ад страстей, в минуты упадка она утешалась только одним: обессиленная, уязвимая, она становилась человеческим существом с определенными контурами, находившимися в определенной точке земли.
Таково было первое перевоплощение Франсуазы: субъект абсолютный, заключающий в себе все, она вдруг превращалась в ничтожную частицу мира; болезнь окончательно убедила ее в этом, как убедила в этом меня: она была индивидом среди прочих, никем. И тут ее подстерегала опасность, та самая, которую с отроческих лет пыталась отвести я: другой мог не только украсть у нее мир, но завладеть ее существом и околдовать ее. Своими обидами, своими приступами ярости Ксавьер искажала ее; чем больше она отбивалась, тем глубже увязала в этой западне: ее образ становился таким уродливым, что ей следовало либо возненавидеть себя навсегда, либо разрушить чары, устранив ту, которая их осуществляла. Так добивалась она торжества своей истины.