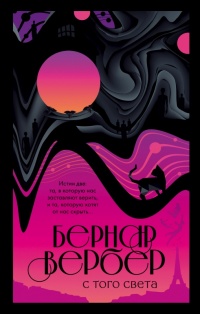В Марракеше мы не захотели, как в Фесе, поселиться вдали от туземного центра. И там тоже все хорошие отели были закрыты. Мы остановились в арабском отеле, грязном, но выходившем на площадь Джема эль-Фна; ночью, поскольку в номерах можно было задохнуться от жары, мы вытаскивали кровати в прилегавший жалкий сад. Мне очень нравился этот дортуар на открытом воздухе и гораздо меньше клоаки, практически непринужденные. Самые знойные часы мы проводили в кафе на другом конце площади; там была терраса, где мы ужинали; нам не надоедал тот неугомонный базар, который день и ночь разворачивался на обширной площадке. Мы видели людей, совершенно отличных от тех, которых встречали на севере: высокие, худощавые, узловатые, смуглые, как святой Иоанн Креститель, они наверняка питались саранчой и приходили из пустыни. Такими же удивленными глазами, как и мы, они взирали на заклинателей змей и шпагоглотателей; стоя и сидя на пятках кружком, они слушали медлительный или торопливый, ритмичный, словно музыка, голос сказителя. Под навесами жарились бараньи туши; в огромных кастрюлях варились желтые рагу. Люди продавали, покупали, разговаривали, кричали, восхищались, спорили: какое кипение! Вечером, когда жара наконец спадала, тусклые лампочки слабо освещали лотки, и к звездам возносилось протяжное монотонное пение. На севере я уже видела верблюдов, но именно в Марракеше, у стен из обожженной глины, среди пальм и фонтанов я постигла их благородство и грацию; я не уставала смотреть, как они опускаются на колени, встают и идут своим размеренным шагом. Рынки были более просторными, более светлыми, чем в Фесе, и более безыскусными; там меньше ощущалось богатство торговцев и больше — работа ремесленников; меня завораживала улица красильщиков. Цвет там казался не символом качества вещей, а их сущностью; как у воды, которая становится снегом, градом, льдом, инеем, у него были свои превращения: фиолетовый, красный — в жидком виде стекали в сточную канавку; в лоханях они приобретали густоту крема и обладали мягкостью и лаской шерсти, когда в мотках сушились на решетках. Среди всех этих материалов, вернувшихся в свое девственное состояние и обрабатываемых простейшими способами, — шерсти, меди, кожи, дерева, мне казалось, я вновь возвращаюсь к плодотворным опытам детства.
Вооружившись сведениями, картами, объяснениями и провизией, мы совершили пеший поход в Атлас; автобус доставил нас на один перевал и забрал оттуда через три дня, за это время мы прошли безлюдными тропками по роскошно красной горе; мы спали в высокогорных приютах, у подножия берберских селений. У голубоглазых крестьян мы покупали бездрожжевые лепешки, заменявшие им хлеб; мы ели их с колбасой, прислонясь к окну нашего пристанища. Особенно помню первое, напротив очень высокой горной цепи; Сартр задавался вопросом: поднимается или спускается линия хребтов; на наш взгляд, она, конечно, поднималась, но можно было считать ее и провалом, и мы долго старались проверить это.
На юг мы добрались в автобусе. Мы были единственными европейскими пассажирами, и шофер, европеец, посадил нас рядом с собой: нам в лицо бил сильный жар мотора, запах бензина, и я не раз чувствовала себя на грани кровоизлияния; если я высовывала в открытое окно руку, раскаленный воздух обжигал меня: мы преодолевали пекло.
Этот край, где люди не ели досыта, постоянно опустошали засуха и голод: и это был как раз один из тех самых злополучных годов. Отчаявшаяся орда пыталась пробраться на север, власти преграждали пути: им давали немного супа и оттесняли назад. Люди умирали как мухи, те, кто выживал, походили на умирающих. Время от времени мы останавливались в какой-нибудь деревне; в буфете — бакалейной лавке, всегда содержавшейся молодым евреем в черной шапочке, мы поглощали большими стаканами воду; мне неприятно было видеть оборванное, истощенное население, осаждавшее автобус; они с мучительной тревогой требовали товары, заказанные в городе: как правило, удобрения. Шофер изображал из себя каида: он бросал тюки, словно милостыню, их распределение, казалось, зависело лишь от его благосклонности и произвола. Нередко он, не останавливаясь, проезжал мимо неподвижных групп под пальмами или едва замедлял ход, пока помогавший ему маленький туземец бросал из автобуса мешки и пакеты.
Нам часами случалось ехать по земле, выжженной огнем сирокко, где не пробивалось ни единой травинки. Вокруг фосфорного рудника, где мы останавливались, земля была необычайных ядовитых цветов: зеленого, серо-зеленого, лимонно-желтого, оранжевого, болезненно розового. Мы выпили анисовой водки и пообедали с инженерами рудника в их столовой. Все города показались мне мрачными. Дольше всего мы пробыли в Уарзазате. Стояла такая невыносимая жара, что днем мы не выходили, после обеда пытались поспать, несмотря на тучи крохотных, почти невидимых зеленоватых комаров, сосавших нашу кровь; а потом в столовой отеля с герметически закрытыми ставнями мы пили наливку из черной смородины с водой. В сумерках мы высовывали нос наружу и шагали вдоль высохшего уэда, среди чахлых пальм, взволнованные безмолвием равнины, сливавшейся с бескрайностью небес. Мы с большой симпатией относились к хозяину отеля; он носил шаровары и харкал кровью; он описал нам эпидемию тифа, которая недавно опустошила страну[82]. Каждый день в полдень он бесплатно раздавал детям вареный рис; ребятишки собирались с округи в десять километров, я никогда не видела такого убожества: почти ни у кого не было здоровых глаз; они страдали трахомой, либо ресницы росли у них внутрь роговицы и прокалывали ее; они были слепые, кривые, бельма, более или менее плотные, закрывали их зрачки; у других были вывернутые задом наперед ступни: это было самое поразительное, самое невыносимое на вид увечье. Эти маленькие призраки садились на корточки вокруг огромных мисок и все вместе — в установленном ритме, чтобы ни у кого не было привилегий, — черпали оттуда рис голыми руками.
Камень упал у нас с души, когда мы покинули ад юга. В Касабланку мы вернулись берегом; в Сафи, Могадоре мы полной грудью вдохнули свежесть моря. И возвратились во Францию.
Во время этого путешествия Сартр с тревогой следил за переговорами, происходившими в Чехословакии. После аншлюса немецкая часть в Судетах пребывала в волнении; она требовала упразднения национального государства в пользу федерального устройства, гарантирующего немцам полную автономию; после муниципальных выборов, оказавших широкую поддержку судетской части, Генлейн, глава чехословацких нацистов, потребовал возвращения Великой Германии сторонников автономии. Гитлер сконцентрировал войска на границах, Прага объявила частичную мобилизацию. В начале августа в Прагу с миротворческой миссией приехал лорд Рансимен: он заявил, что судетские округа имеют право располагать собой, и это укрепило их в выдвигаемых ими требованиях. Ситуация накалялась все больше и больше, недобросовестность судетских делегатов делала невозможным любое соглашение между ними и Прагой. 31 августа переговоры были на грани срыва: лорд Рансимен возобновил их in extremis[83]. В начале сентября Англия проводила активную дипломатическую деятельность; Чемберлен, лорд Галифакс бесконечно совещались. 14 сентября, накануне моей встречи с Ольгой в Марселе, в Праге объявили осадное положение, и Генлейн отверг последние предложения чехословацкого правительства. Война казалась неизбежной, и я готова была вернуться в Париж вместе Сартром. На следующий день появились более обнадеживающие новости: Чемберлен собирался лететь в Берхтесгаден, чтобы лично поговорить с Гитлером. Сартр уговорил меня не менять моих планов. Если ситуация осложнится, он пришлет мне телеграмму до востребования. Моя шизофрения легко одержала верх над моими тревогами, и я позволила ему сесть в поезд без меня.