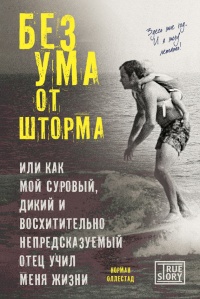Вы голову несли, как вымпел.Загадочна,Как незнакомое, чуть освещенное окно.А дальше?Милая, ну кто бы вас не выпил,Как за обедом легкое вино?
Пречистенка.
Две маленькие неяркие звезды из-за трубы балашовского особняка взглянули на меня глазами человека, заболевшего желтухой.
– Приехали, Сережа, – тихо сказал я, беря его за руку.
Всю остальную часть ночи он пил свой есенинский коктейль – водку с пивом.
Это был любимый напиток наших нижегородских семинаристов. Они называли его ершом и пили чайными стаканами.
А женщину в норковой шубке я встретил через двадцать семь лет в коридоре мягкого вагона «Москва – Сочи». Она уже была почти старухой. Старухой с широким задом и полными руками в синих жилках, как на мраморных пепельницах. Но улыбалась все так же мило, стараясь не обнажать зубы, которые больше были похожи на пенковую прокуренную трубку, чем на поддельный жемчуг. Но улыбка, выражение глаз сохраняются несколько дольше, чем кость и кожа вокруг век.
– Я вас узнала с первого взгляда, – сказала женщина, – а вы меня… с третьего. Правда?
– Правда, – ответил я, так и не научившись быть очень приятным.
У каждого человека есть своя маска. Ее не так-то легко сбросить.
На другой день в балашовский особняк пожаловал поэт Петр Орешин.
– Дай, Серега, взаймы пять червонцев, – сказал он Есенину. – В субботу отдам. Будь я проклят.
– Нет ни алтына, душа моя.
И Есенин, вынув бумажник, бросил его на стол:
– Все, что найдешь, твое. Без отдачи. Богатей!
Он имел обыкновение рассовывать деньги по карманам. Но на этот раз во всех было пусто.
Орешин взял бумажник и стал деловито обшаривать его.
– Вот так камуфлетина!
Мужиковствующие поэты щеголяли подобными словечками.
– О тебе, Петр, в Библии сказано: «В шее у него жилы железные, а лоб его медный».
– Признавайся, Серега, а в карманах? В карманах есть? И взглянул на Есенина взглядом испытующим и завистливым. Ершистые брови зло двигались.
– Ищи, – сказал Есенин, поднимая вверх руки. – Ищи! Орешин дотошно искал, выворачивая карман за карманом.
– Где научился обшаривать-то? В угрозыске, что ли?
– И впрямь ни шпинта. В решете чудо!
– А штиблеты скидывать? – играя в покорность, спросил Есенин. – Может, там найдешь рубликов триста? Под пяткою у меня?
– Дурак! – хмуро выругался Орешин. – Какого же черта на богатой старухе женился?
Есенин стал белым, как носовой платок. Но не ударил Орешина, а только сказал:
– Ах, Петро, Петро!.. Не о тебе ли с твоими друзьями… по вшивому Парнасу… говорено в древности: «Мы благословляем вашу наивность, но не завидуем вашей глупости».
Есенин и Дункан жили в одной комнате, а как будто в разных: он в своей, она – в своей. Казалось, что они перекликаются через толстую каменную стену, а не разговаривают.
– «Эх, гори да догорай моя лучина», – пел Есенин со своей пленительной хрипотцой.
Его жизнь сгорала как-то криво, с одной стороны, как неудачно закуренная папироса. Дым от нее лез в глаза, и они слезились от этого.
Мужиковствующие поэты, актеры с подбритыми бровями, нэпманы из Столешникова переулка, присосавшиеся к богеме, и прочие и присные – все это были только цветочки. А уж ягоды, полные горечи и отравы, созрели за границей – в Европе и в Америке.
Перед отъездом за границу Дункан расписалась с Есениным в загсе.
– Свадьба! Свадьба!.. – веселилась она. – Пишите нам поздравления! Принимаем подарки: тарелки, кастрюли и сковородки. Первый раз в жизни у Изадоры законный муж!
– А Зингер? – спросил я.
Это тот самый – «Швейные машины». Крез нашей эпохи. От него были у Дункан дети, погибшие в Париже при автомобильной катастрофе.
– Зингер?.. Нет! – решительно тряхнула она темно-красными волосами до плеч, как у декадентских поэтов и худож ников.
– А Гордон Крэг? – Нет!
– А Д’Аннунцио? – Нет!
– А…
– Нет!.. Нет!.. Нет!.. Сережа – первый законный муж Изадоры. Теперь Изадора – русская толстая жена! – отвечала она по-французски, прелестно картавя.
Илья Ильич, административное лицо при московской школе Айседоры Дункан, показал мне журнал, полученный из Нью-Йорка.
– А вот и наши! – сказал в нос Шнейдер. У него был хронический насморк.
На цветной фотографии я увидел смеющуюся Изадору и несмеющегося Есенина.
Она снялась в ярко-синей широкополой шляпе с белыми перьями, в ярко-синей пелерине, подбитой белым шелком; в руке был ярко-синий зонтик, окаймленный пеной белых кружев, и т. д. Все ярко-синее с белым.
А он – от шляпы до подметок в светло-сером. Словно отлит из серебра. Легкий, ладный.
– Как денди лондонский одет! – прогнусавил Шнейдер. – Вот вам и рязанский мужичок!
Кстати, мужичок-то Есенин был больше по слову. Дед его, заменивший в попечении отца, гонял по Оке и Волге собственные баржи, груженные хлебным товаром.
Под роскошным цветным клише стояла подпись: «Айседора Дункан со своим молодым мужем».
Я ударил кулаком по журналу:
– Мерзавцы!
Шнейдер улыбался своей администраторской улыбкой – одновременно приторной и наглой.
– Американцы без церемоний!
Он протянул мне второй журнал. Подпись: «Айседора Дункан со своим мужем, молодым большевистским поэтом».
– Его фамилия их не интересует, – счел своим долгом пояснить Шнейдер. – Муж Айседоры Дункан! И этим все сказано.