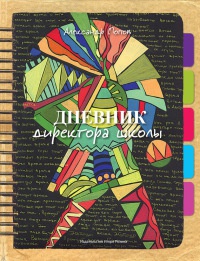Самарин держал острие ножа в доле вершка от горла Балашова. Другой рукой вцепился скопцу в волосы.
— Что случилось с Алешей? — спросил Глеб. Голос его дрожал. — Можете меня отпустить. — Балашов вновь уселся на прежнее место, и Кирилл отступил на шаг.
— Вы, похоже, расстроились, — заметил пришелец. — А что, и на парнишку глаз положили, тоже затеяли его на обрезной доске разложить? В преемники готовили? Советую вам озаботиться тем, чтобы другие люди зачали за вас детей.
— Сильно ли ранен ребенок? Жив ли?
— Жив, — заверил Могиканин. — Странно, что вам не безразлично. Думал, вам, выжившим из ума кастратам, ни до кого, кроме себя, и дела нет!
— Вы в точности как тот офицер, из евреев, — заметил Балашов. — Думаете, что все узы человеческие — любовные ли, дружеские ли — рвутся, стоит лишь ключи адовы в огне спалить? Ложь!
— Знаете, Глеб Алексеевич, из всех верующих вы занимаете меня более прочих. Когда окончательно наступит тьма и завершится мироздание, найдутся те, кто пробудится от вечного сна, смеясь над женщинами и мужчинами, изувечившими свои половые органы, чтобы тем самым уподобиться ангелам! Не двигаться! Послушайте! Да слушайте же! Можете ли вы выслушать?! Случилось нечто, что не… чего я не желаю допустить впредь. Ваша секта нелепа, однако же есть в вере вашей нечто, что я намерен сегодня же позаимствовать, какими бы безрассудными ни были практика и связанные с нею верования. Однако есть в них польза. Ибо я не намерен дозволить случившемуся повториться впредь. — Самарин задышал часто, голос срывался. — Как там по вашей философии? Чтобы войти в рай, нужно искоренить само орудие греха? Так отчего же не выколоть глаза, не вырвать язык? Только и думаете, что о запретном плоде, о плотских утехах — и что же? Стало быть, фьють — и под нож!
Бред полнейший всё это, мой дорогой! Нет мира, кроме этого, и нет той, другой жизни! Хочешь парадиз — так изволь здесь, на грешной земле, строить, вот только времени много уйдет и многим умереть придется. Да знаете ли вы, кто я?! Самарин, да… Могиканин… Самарин — но и Могиканин! Вор, народоволец, террорист, анархист, сокрушитель! Я пришел в этот мир разрушать всё, что не похоже на рай! Есть и другие как я. Поймите! В каждой конторе, сословии, на всякой службе, в банкире, лавочнике, генерале, попе, землевладельце, дворянине, чиновнике! За десять лет везде мы следы оставили. Трудно было.
Случилось нечто, чего я не намерен допускать впредь.
Временами, Глеб Алексеевич, дело наше казалось тяжким… слишком тяжким! Случалось, что те, кто полезен разрушителю, те, которых при необходимости следовало уничтожить, чтобы двигаться дальше, а если и не уничтожить, то по крайней мере покинуть — люди эти… — Он часто заморгал, подыскивая верное слово, — оставляли свой след! Знаете ли вы, что отсюда вот и до сих пор у меня была вольная жизнь?! — Самарин осторожно провел в воздухе ровную черту. — И никогда не бывал на каторге, ни в каких Белых Садах!
Ложь во спасение. Была свобода, чистая бирка и достаточно средств для поездки из Москвы в Тифлис, чтобы там повлиять на ход так называемой революции…
Вот что я должен был предпринять. С товарищами договорился, хотя всякие договоренности были излишни. Так славно совпали обстоятельства и необходимость!
Однако до Грузии так и не добрался. Вместо этого пустился в полугодовое странствие по Северу, совершенно бесцельно, пытаясь только лишь избавить женщину, с которой некогда познакомился в студенчестве. Катю… И для чего пошел? И знаете ли вы, с каким рвением я ее разыскивал? Сколь много значила она для меня?
Взял в дорогу попутчика, доброго, умного эсера, и крепкого, чтобы, как выйдет пища, прикончить. Так я и поступил, Глеб Алексеевич.
— Господи, помилуй его душу!
— Господи помилуй, Господи помилуй… к черту Бога! Слышите ли?! Как вам: решиться зарезать и съесть человека, чтобы помочь одной-единственной женщине, которой, скорее всего, и в живых давным-давно нет? Не ради дела, а ради себя самого? Как вам это понравится?
— Должно быть, любили вы Катю очень сильно…
— Идиот! Что такое, по-вашему, эта любовь?! Способна ли она настолько увлечь человека, что тот пройдет через тундру тысячи верст и сделается людоедом?!
— Так вы нашли свою знакомую?
— Нашел. Она была мертва. Все там умерли. Замерзла. На нежной коже ее, прямо под губами, проступали ледяные кристаллики…
— Кирилл Иванович…
— Да слушайте же, черт бы вас побрал! Вы что, выслушать не можете?! — Самарин пнул кружку, та улетела под лавку и ударилась о стену избы, оставив на неструганых половицах растекшееся пятно. — И вот опять! Сегодня! Мальчишку задело в плечо шрапнелью. Кровь капает. У меня нет совершенно никакого резона поворачивать обратно. Оставил бы его там, спрыгнул с поезда, убежал в лес и пробрался бы мимо красных на Запад… Вот где мое место! Вот где работы сокрушителю!
И снова какая-то стерва в меня вцепилась, тянет к себе, да еще и мальчишку тащить заставляет! Мне вперед нужно, а я, ради нее, вернулся! Всего-то и провел с нею что одну ночь, попели романсы, я целовал ей шрамик на груди, и мы совокупились… Вы-то меня поймете, Глеб Алексеевич. Я не намерен позволить впредь случиться этому! Вы тоже достигли точки, когда нельзя позволить повториться случившемуся ради мира, лучшего, чем сия жалкая юдоль! А теперь и мне пора. Вот нож. Да берите же! Оскопите меня!
Балашов, сидевший понуро, сжав руки, потупившись, поднял на Самарина взгляд и спросил, что тот имел в виду.
— А как вы думаете? Да берите же нож! Делайте дело! Кастрируйте!
Взяв нож, Глеб швырнул его на лавку, качая головой. Кирилл ухватился за оружие, силой разжал пальцы скопца и заставил сжать рукоять. Скинул пальто, расстегнул брючный ремень и спустил штаны.
— Нет, не там, — вновь покачал головой Балашов, — не здесь любовь пребывает, а будь иначе — что за мир вы тщились бы сотворить?
— Оскопите меня! — требовал Самарин. — Не могу я так! Это не любовь, а зараза, которой я бессилен противостоять! — Рухнув на колени, задрал подол рубахи и предъявил сжатые в кулаке половые органы. Губы растянулись, дрожа, а по измазанным в саже щекам бежали две широкие дорожки слез. — Кастрируйте меня, Глеб Алексеевич! — умолял Кирилл. — А не то я совершенно бесполезен для будущего!
Балашов снова отбросил нож на лавку, поднялся, прижал лоб Самарина к своей груди и погладил по голове. Нагнулся, целуя в маковку, и, оставив плачущего Кирилла, зашагал по направлению к Языку.
Охота на бесов
Внизу постучали. Муц спустился посмотреть, кто пришел. Достал револьвер. Анна слышала, как, спускаясь, офицер взвел курок — гарантированная смерть заводского производства, — стучал сапогами по дереву. Приоткрылась дверная створка.
Вместо слов мгновенная тишина, а потом, должно быть, что-то сказали. Затем дверь закрылась, и женщина услышала, как кто-то поднялся по лестнице. Балашов.