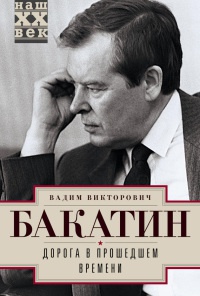«Сербы, македонцы, болгары, турки, итальянцы, греки… Кого это волнует?» — подумала Эмма и уронила газету на пол. Пятьсот лет вторжений и передела границ, и все без толку. Началось с Александра Македонского… вернее, даже с Трои — и ничего, ничего, ничего не изменилось. Веками люди жили с колыбели до могилы, не зная ни минуты покоя, в вечном страхе за свою жизнь. Лучше уж вовсе не рождаться. Или сразу умереть.
В одиннадцать часов тем же утром Юнг зашел в отделение для буйных проверить состояние нескольких пациентов, а без двадцати пяти двенадцать его провели в палату Пилигрима.
Вольф к тому времени уже сидел в коридоре, оставив Пилигрима на попечении Кесслера. Пациенту принесли чистую пижаму, наглаженный халат, впервые за две недели побрили и позволили почистить зубы.
Юнг велел Кесслеру прогуляться, добавив, что тот может вернуться через полчаса.
Когда Кесслер ушел, прихватив с собой грязную пижаму и поднос с остатками завтрака, Юнг взял единственный стул и поставил его спинкой к двери.
Сев, он вытащил из нотной папки листок бумаги и посмотрел на пациента. Юнг не спал всю ночь, мучаясь угрызениями совести из-за смерти своего ребенка и из-за того, что жена застала его с другой женщиной.
Касательно первого из этих двух прискорбных эпизодов Юнг чувствовал одновременно и вину, и раскаяние. Его подозрение, что Эмма нарочно упала с лестницы, почти подтвердилось. «Я не споткнулась, — сказала она ему. — Я упала». Что же до другой женщины, Юнг не раскаивался ни на минуту — он лишь жалел, что им на время пришлось расстаться. Он будет скучать не только по сексуальному освобождению, которое она ему дарила, но и по их интеллектуальным беседам. Звали ее Антония Вольф, и когда-то — как и Сабина Шпильрейн — она была пациенткой в Бюргхольцли. Поправившись, Антония, обладавшая поразительным талантом и интуицией, стала квалифицированным врачом.
Впервые эту молодую женщину Юнг заметил несколько недель назад в коридоре вместе с Фуртвенглером. Ему было легко с ней — и одновременно трудно, поскольку внешне она очень походила на Эмму, с той лишь разницей, что волосы у нее свободно падали на плечи, в то время как жена Юнгa убирала их назад. Чувственная, искусная в плотских наслаждениях, она… Антония… Тони… Она…
Забудь об этом! Ты пришел к Пилигриму.
— Доброе утро, — сказал Юнг. — Какой дивный солнечный денек!
Это было вранье. На самом деле на улице шел дождь, а у него умер ребенок.
Пилигрим не ответил и отвел глаза.
— Вы ничего не хотите сказать? — поинтересовался Юнг.
— Только то, что вы заперли меня в темной комнате вместе с маньяками.
— О каких маньяках вы говорите?
— Шварцкопф убил двух моих птиц.
— У вас есть птицы?
— Голубки. Голуби. Я кормлю их.
— Ваши птицы? Я не знал. Мне казалось, что птицы не могут быть чьей-то собственностью.
— Глубокая мысль, доктор Юнг. — Пилигрим приподнял руку и снова уронил ее на колено. — Конечно, вы правы. И тем не менее я заботился о них.
— Мистера Шварцкопфа уволили, — сказал Юнг. — У вас есть другие жалобы?
— Кесслер — чокнутый.
— Да?
— Он верит в ангелов.
— А вы не верите?
— Конечно, нет. Какой от ангелов прок?
— Кесслеру они, по-моему, помогли. Вы знаете, что он сам тут лечился?
— Нет. Ну и что? Это лишний раз подтверждает мою точку зрения. Вы называете меня сумасшедшим и отдаете в руки помешанных. Может, у вас самого с головой не в порядке?
— Возможно, — улыбнулся Юнг. — Вполне возможно.
Они помолчали.
— Как вы себя чувствуете сегодня, мистер Пилигрим? Отдохнувшим? Отрешенным?
— Отвязанным.
Юнг рассмеялся.
— И то верно. Что ж, давно пора. — Он подождал немного и осторожно спросил: — Скажите, вы действительно были готовы убить мистера Шварцкопфа?
— Я хотел, но сдержался. Я не могу убивать, чего не скажешь о мистере Шварцкопфе. Я видел, как он ел мух.
— Разве мухи — это так важно?
— Все важно. Вы не согласны? А вдруг он съест их всех, и вам ничего не останется?
Юнг откинулся на спинку стула.
— Да, тут у нас явно проблема, — промолвил он. — Я вам не нравлюсь. Верно?
— В данный момент — верно.
— Не забывайте, что я ваш врач. Доктора не всегда бывают приятными.
— Это я прекрасно понимаю. — Пилигрим пристально посмотрел на Юнга. — Чего вы от меня хотите, доктор Юнг? Могу я что-то сделать для вас?
— Да. Вы можете ответить на некоторые вопросы.
— Вы задаете вопросы, а я отвечаю. Это несправедливо.
— Вы предпочли бы поменяться ролями?
— Я и не заметил, что мы играем какие-то роли.
— Такого рода словоблудие никуда нас не приведет — ни вас, ни меня.
— Если учесть, что английский для вас не родной, вы говорите очень хорошо. «Словоблудие». Замечательно. У вас богатая лексика. Вообще, должен сказать, вы настоящий знаток, и не только в английском.
— Не уверен, что понимаю вас.
— Еще как понимаете! Пожалуйста, не разыгрывайте из себя скромника. Вы напрочь лишены скромности, даже ложной. Другими словами, доктор Юнг, я вижу вас насквозь.
— Понятно.
— Нет, это мне все понятно! На школьном жаргоне вы просто «гнилой стручок».
Юнг отложил список вопросов. Они ему больше не понадобятся. Беседа с Пилигримом потекла по своему собственному руслу, хотя и не туда, куда он предполагал. Тем не менее это могло оказаться полезным.
— Стручок? То есть длинный двустворчатый плод с семенами? Типа гороха?
— Нет, сэр. В английских школах так на жаргоне называют пенис. Грязный, вонючий и мягкий член, из которого можно только сикать, и больше ничего.
— Сикать?
— Писать.
— Понятно.
— Да неужели?
— Мне так кажется.
— А я сомневаюсь. Видите ли, школьник ночами трет свой член в надежде, что в один прекрасный день испытает настоящее наслаждение в виде эякуляции и последующего оргазма. Он слышал об этом и, возможно, даже видел, как балдеют его старшие товарищи. Но его собственный пенис не встает, потому что яички еще не опустились. Даже если он достигнет какой-то эрекции, наслаждения ему не видать как своих ушей — он испытает разве только нечто отдаленно напоминающее оргазм. Он хуже девственника. Он бесплоден. Отсюда и «гнилой стручок».
— Значит, я — незавершенный оргазм.
— Да, сэр. Заметьте, что я называю вас «сэр», как положено школьнику.