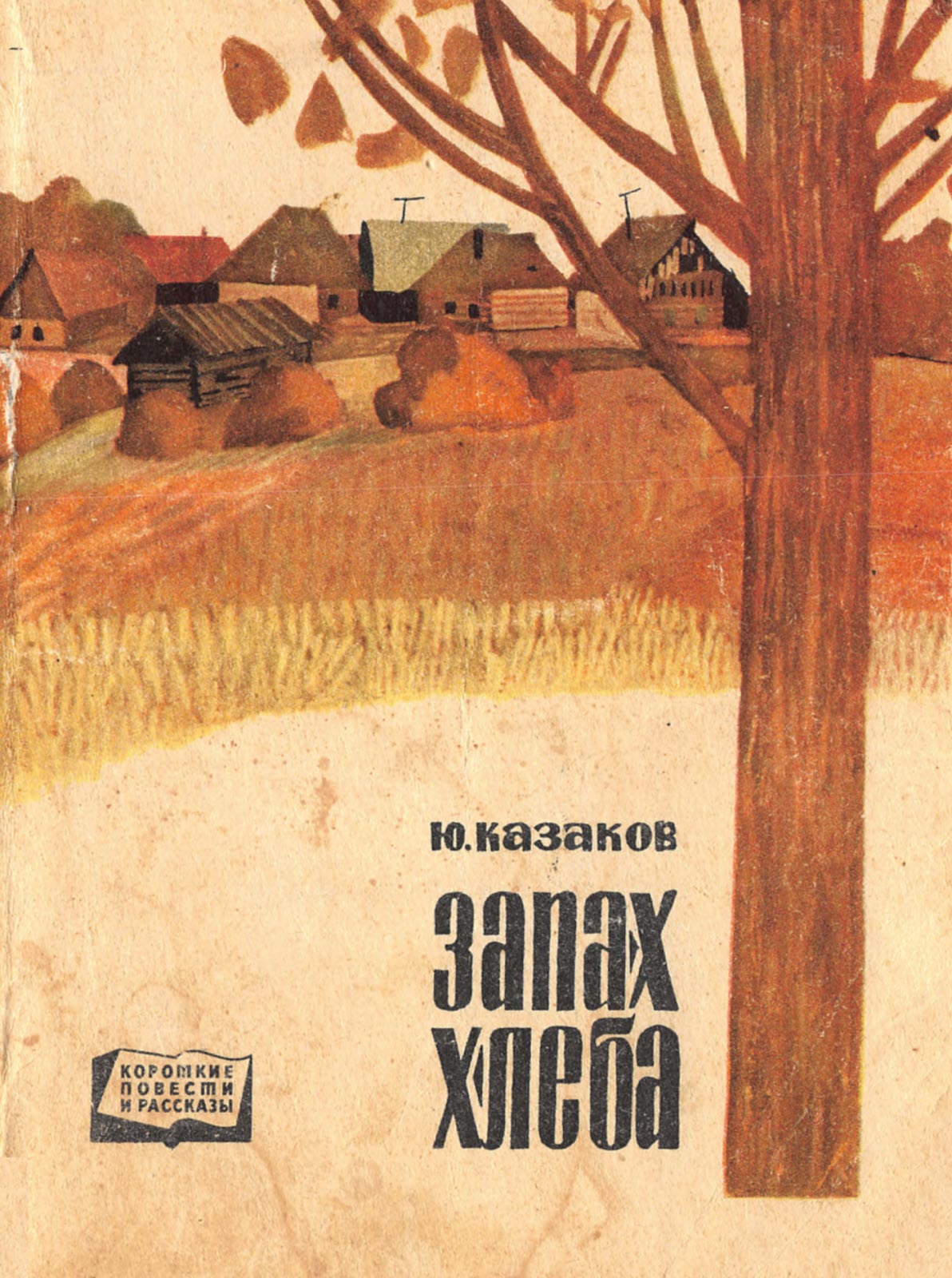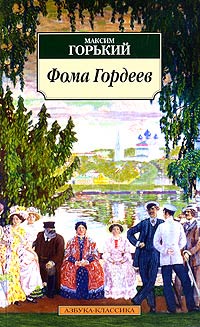и канцеляристы. У этих была собственная гордость: они ведь получали не сдельные и не зарплату, а всегда жалованье или даже оклады. Этим они кичились. С непостижимым упорством откладывали каждый сэкономленный грош. Молча, упрямо, завистливо карабкались вершок за вершком поближе к миру хотя бы уже двухкомнатных квартир.
Во имя продвижения по лестнице благополучия манипулировали, как могли, своими чадами — которых, разумеется, бывало от силы двое, — словно прямой обязанностью тех было достичь решительно всего, чего не удалось достичь родителям.
Этот козлиный дух натужного старания был чужд пани Моравковой, она здесь чувствовала себя белой вороной. Не удивительно, что в той гнетущей атмосфере ей бывало жутковато, и она при любой возможности шла к остановке двадцать первого трамвая, чтобы ехать на Браник.
Скромные домики, форпост деревенских халуп, встававшие и тут и там по утесам глубокой долины Влтавы (пока их не остановили первые особняки, поднявшиеся на фоне силуэтов города и королевского замка), были сровнены с землей. Эпоха этой влтавской идиллии отошла в небытие, вернее, была вытолкнута в небытие. От палисада при домике Моравковых остались только два роскошных куста сирени и один — жасмина. Корявую акацию срубили.
Пани Моравкова была охвачена гадливостью и ужасом, когда услышала, что оккупанты намерены здесь основать приют, где молодые патриотки будут ублажать особо отличившихся героев тысячелетнего рейха, а после верноподданнически производить на свет потомство гарантированно чистой расы. Казалось, уже самый этот замысел осквернял и перечеркивал честный трудовой путь всех живших тут, на Влтаве, прадедов и прабабок по ее и по мужниной линии. Все эти плотовщики, ледорубы, плотники, пивовары, огородники и их жены были людьми достойными и уважаемыми. Домик вырастил в своих стенах не одно поколение. Ее и мужниными предками пани Моравкова по праву гордилась, хотя семья и не хранила ни портретов в золоченых рамах, ни прочих ценных памятных вещей. У бедняков такого не водится. Зато хранила в разных былях и преданиях свидетельства о неподкупной честности и твердом нраве, передававшихся из рода в род. И вот пришлось дожить до этакого срама.
Осуществлению извращенной идеи помешали поражения на фронтах. К общей великой радости, становилось ясно, что назревают более важные проблемы, чем «ученое» культивирование чистоты арийской расы. Но домики уже успели снести. Сирень, не стесненная стенами и заборами, буйно разрослась. Рачительный сосед поставил под кустом удобную скамью. На ней-то и сидела теперь пани Моравкова — с товарками или одна. Глядела на реку, на баррандовские скалы и думала о том, как будет все после войны, когда вернется сын. Сердце сжималось при мысли, вернется ли и что он скажет, если вернется, когда вместо покрашенного в голубой цвет домика увидит только два раскидистых куста. Поймет ли он, что домик невозможно было отстоять.
Ах, что за жизнь была там!.. Дыханье лип и речной свежести, гудки пароходов, белые сне́ги и бурные разливы, кружившие в своих водоворотах зеленоватые льдины из Сазавы, бурые из Бероунки и сизые из Влтавы — ведь Влтава спокон веку была рекой черной, берущей за сердце и сиротливой.
Шли дни, и домик, некогда лепившийся к вечно сырой скале, тесный, необорудованный, едва пригодный для жилья, приобретал ореол развеянной мечты, рисуясь воображению все более красивым, удобным и желанным. Так уж всегда бывает с неосуществленными возможностями и похороненной любовью. А в этом случае любовь была большая: прекрасная, невозвратимая молодость пани Моравковой.
В сорок шестом году, под пасху, Павел объявил матери, что женится. Однако показать невесту не привел, как, безусловно, следовало в таком случае. Это ему казалось глупо-старомодным — чуть ли не пережитком эпохи Франца Иосифа. Моравек-старший был в ту пору тяжко болен. Пани Моравкова после сообщения сына воспрянула духом, поверив, что судьба еще не вовсе от нее отвернулась. Она будет ходить за больным мужем, закроет ему глаза, когда придет последний час, но где-то в будущем ждет их семью и появление новой жизни. Мысль о потомке наполняла ее светлой умиротворенностью. Казалось, и больного мужа новость успокоила и поддержала. Словно честь рода влтавских Моравеков требовала, чтобы представители его умирали достойно, в уверенности, что род их не угаснет.
Когда мать с нежной укоризной спросила сына, почему он не привел Надежду, что она за девушка и из какой семьи, Павел в досаде тряхнул головой — не все ли равно матери? Женится он.
— При чем тут семья? — вслух удивился он.
Мать улыбнулась: большой вымахал, а ума нет.
Павел нехотя сообщил, что отца своего Надя не знала, родилась после его смерти, а мать погибла во время налета, осталась под развалинами дома. Но Надя красивая хорошая девчонка.
И потому пани Моравкова с непритворной сердечностью прижала Надю — она действительно была очень красива — к своей вальяжной груди. Решила, что будет любить ее, как свою Веру — изменницу бессовестную, пишет уже раз в полгода, — как дочь родную, будет любить, немножко больше и немножко по-другому, все же дочь есть дочь, а то — жена сына.
Мать Павла не шепнула ей на ушко: «Сделай моего мальчика счастливым»… — как это принято у тонких дам и благородных матерей, описываемых в романах, к которым пани Моравкова охотно обращалась, когда судьбе угодно было сыграть с ней очередную шутку.
Мать Павла отличала плохие романы от хороших, но, читая хорошие, должна была напрягать голову и уже так от души не плакала. Она прекрасно отличала плохие романы и от жизни и знала, что никакой женщине не удается сделать мужчину счастливым, во всяком случае надолго. Еще она считала, что счастье — это в общем-то не так уж важно, главное, чтобы господь послал работу и здоровье. Остальное придет само.
Надя пришла к ним в дом, представиться, — с цветами, вместе с Павлом. На ней был очень красивый весенний туалет — подарок тети Клары. Если бы Надю могла теперь увидеть ее строгая матушка, она была бы дочерью довольна. Надя держалась скромно, мило, как и подобает невесте. Павел, которого от этих «мещанских предрассудков» коробило, через полчаса ушел, точно мальчишка, смывшийся в кино.
Старый пан Моравек, измученный недугом, уже впал в детство и, в блаженной отрешенности принимая Надю за свою дочь Веру, расспрашивал, как подвигается ее ученье. Надя отвечала то, что, по ее понятиям, могло подействовать успокоительно на его ослабевший разум, и вспоминала о своем неузнанном отце, чье миловидное лицо глядело на нее столько лет из золоченой рамы фотоснимка, обвитой плющом. Ей было жаль этого старика, блуждающего в лабиринтах помраченного рассудка,