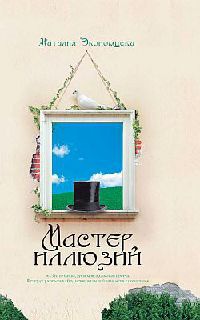И вот О’Хара в Москве. Правда, не все вначале шло гладко. Во-первых, не получалось по годам, так как сыном полка, при всех оговорках, Тимоти быть не мог. В Пентагоне переполошились, подняли архивы, и оказалось, что сотрудник, заполнявший карточку на „сын полка“, по каким-то причинам счел, что каждый советский школьник с таких-то лет воспитывается в полку и что „сын полка“ — обязательная графа в анкете, как, например, „пионер“ или „партиец“. Но все обошлось, потому что, согласно полученным Тимоти данным, в „сыновьях полка“ числились люди самого разного возраста, так как за это им полагались апельсины к Новому году и выезд, всем скопом, на первомайский пленэр с песнями и гармонью. Были неувязки и относительно „труженика полей“, но Тимоти на голубом глазу разъяснил, что употребил слово „полей“ в метафорическом смысле, приведя в качества аналогии „закрома родины“ и забытое „нива“. И вот, когда все уладилось и О’Хара уже почти влился в толпу зевак, став незаметным для досужего наблюдателя, его постигает последний удар.
Кончается советская диктатура, а с ней приходит конец холодной войне. Устанавливаются братские отношения всех стран. Русские открывают границы и со свойственной им прямотой разглашают военные тайны. Словом, мгновенно разваливается держава, против которой годами работала гвардия вышколенных специалистов Си-ай-эй. Так начинается профанация великой идеи великого противостояния двух великих систем.
Сворачивается русская служба Би-би-си, идут массовые увольнения на „Свободе“. Ввиду отсутствия как косвенных, так и прямых дел резко сокращается финансовый поток для разведгрупп и завербованных проституток. Из России отзываются провокаторы и диверсанты. Между немногими оставшимися разгорается жестокая конкурентная борьба.
Немолодые уже резиденты рыскают по Москве в надежде напасть на любой след: высиживают в кафе; посещают филармонию; играют в крикет и гольф; поют в хоре; ездят в метро; лечатся в клиниках; лежат в психушках; сидят по тюрьмам, и все — мимо. Все тайны давно проданы, а путчи носят чисто локальный, если не индивидуально-склочный характер, и под них не получить ни цента. Именно в такой критический момент и появился в сквере у Большого театра Пиздодуев.
Москва
На следующий день поутру в Вашингтон полетела шифрованная депеша: „вчера пополудню тетя ксения наконец век знк уехала в давос кататься на лыжах тчк погода солнечная зпт на вершинах шапками лежит снег зпт его хватит надолго тчк Мирон“. Из главпочтамта, потирая руки и от удовольствия щурясь, вышел Мирон Миронович Сыркин. Сегодня он мог не ехать в игорный дом, не идти в баню париться, не посещать ВДНХ, зоосад и выставку работ народных умельцев резьбы по дереву, а также не делать массу других, давно остопиздевших ему вещей. Сегодня был его день. Встречу с Пиздодуевым он назначил на восемь вечера, и у него оставалась уйма времени. Полной грудью вдохнув выхлопных газов, Мирон Миронович осмотрелся, распахнул небрежным жестом пиджак и не спеша, прогулочным шагом двинулся вверх по Тверской. Да, трудно поверить, но это была Москва!
Москвичи брали разбег. Шустря и лавируя, они отпихивали его локтями. Вытесняли на мостовую. Неслись на красный свет и трубили машины. Народ клубился на переходах — отчаянные бросались наперерез. Мойщики домывали витрины, расплескивая радужную пену под ноги, на тротуар. Пронеслись невидящие туристы, щелкая на ходу аппаратами „кэннон“. Неистово голосили газетчики. На углу пел баритон, девочка наигрывала на скрипке. Скрежеща рельсами, прозвенел допотопный трамвай, с которого пассажиры свисали гроздьями. Заголосила женщина, хватившаяся кошелька. Проехало большое начальство. Турникетами перегородили улицу. Прогремел ломовой извозчик с розой в картузе. Мужик, оступившись, грузно упал в разверзнутый люк. Сдох светофор, бессмысленно мигая желтым глазом. Милиционер засвистел в свисток, но его заглушил грохот отбойного молотка, поднимающего на дыбы асфальт. По чахлому газону в сторону набережной прохромал голубь. Из ближайшей закусочной потянуло сосисками.
Мирон Миронович завернул за угол. На постаменте с каменными чертами лица стоял Маяковский, возвышаясь над всем этим гамом и смрадом. Стиснутые кулаки он держал во вместительных карманах брюк, широко расставив слоновьи ноги. И смотрел вдаль — туда, где над линией горизонта в туманной дымке алел рассвет и стаи бесшумных птиц, отчаянно маша крыльями, взвивались к солнцу.
Частичная потеря памяти
Домой Пиздодуев не вернулся, схоронившись меж странников на Белорусском вокзале. Заблаговременно купив карту Москвы, бумаги, перьев, чернил, примостившись у стойки круглосуточного буфета со стаканом грушевого компота, Пиздодуев писал. Кружком он обвел Кремль и пустил к нему с разных сторон дугообразные волны. Обозначил как стратегический объект номер один секретную типографию, где штамповались его книги и где он не раз бывал под лягушачьим присмотром в целях внесения последних поправок. От этого главенствующего объекта повел он зигзаги к подземным бетонным складам, которые знал не все, да и те понаслышке; от складов протянул кривые к своему дому. На полях описал подземные и наземные способы транспортировки — крытыми вагонетками линиями метро, бронированными машинами с вооруженной охраной. Аккуратно свернул карту и взял чистый лист. Обмакнул в чернила перо, стряхнул жирную каплю, сделал разворот локтем и — застыл. Больше он ничего не помнил. Ни названий своих книг, ни их числа, ни о чем они, то есть не знал и масштабов той катастрофы, которая, подобно свинцовой туче, двинулась на Москву.
Зал ожидания — с липким, замызганным полом, с мутными, в подплевах окнами — пестрел публикой. Скамьи в основном были заняты. Кто-то доедал огурец, кто-то менял онучу, а кто-то подавно спал, мелодично посвистывая. Стеклянная от недосыпа буфетчица в кружевной наколке, каких пруд пруди по полустанкам страны, сомнамбулически, в забытьи протирала столики. Протяжно зевали, сворачивая скулу набок, слипшиеся за ночь стрелочники. По Москве несмело стелился жидкий рассвет.
До восьми часов вечера, на которые Сыркин назначил Степану встречу, оставался весь день. Проклиная свою диковинную забывчивость — хотя что-то тут было не так, и он не мог понять что, — Пиздодуев силой втиснулся в просвет на скамье, свернулся калачиком. Тяжело упал тугой куль. Отпихивая Пиздодуева пятками, сквозь сон застонала женщина. Но ничего этого Пиздодуев уже не слышал. Он спал.
Свидание
„О’кей“, — сказал Мирон Миронович, нежно погладил спинку скамейки и первым поднялся. „Все, что вы мне здесь пехедали, и кахгу, — он похлопал себя по внутреннему карману, — я, разумеется, передам дальше, мы пхимем мехы“. — „Нет, нет, вы не поняли, — широко заулыбался Пиздодуев, прижав руки к груди. — Меры, какие меры, что вы, ей-богу, впрямь! Не так, без балды — воздушная ядерная атака прямой наводкой. По типографии, потом Кремль — лягушатники уже и там загнездились, но замаскированы под людей, вы меня понимаете?..“ Мирон Миронович сделал предостерегающий жест рукой. „Пхостите, мой молодой дхуг, но эха гохячих войн пхошла, — соврал он. — Пхитом моя дехжава не заинтехесована в остхом междунаходном конфликте“. — „Какой международный конфликт! Вы что! — и Пиздодуев в досаде хлопнул себя по ляжкам. — Мы доживаем последние часы в старом мире! Завтра лягушачья зараза расползется везде! Тактика молниеносного реагирования — вот наш последний шанс!“ — „Ну, хохошо, хохошо, — еще раз соврал Сыркин. — Мы будем хешать, договахиваться…“ — „Давайте, договаривайтесь, — отчаявшись, сказал Пиздодуев. — Но только попомните мои слова (он резанул паузой), они идут и по вашему следу“. Фигура Пиздодуева замаячила на горизонте, срезаясь крутым обрывом. Степан спускался к реке. „Да ради Бога, — прокричал Сыркин ему вдогонку. — Не ночуйте, пожалуйста, на вокзалах, поищите себе другое прибежище“. Внизу, угасая, поблескивала река. Бесшумно ползли пароходы. Вспыхивали, слепя, огни. Огромный город медленно таял в вечерних сумерках.