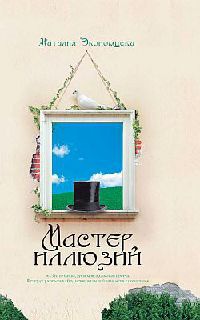Штаб лягушатников
В штабе лягушатников, за столом зеленоватого стекла с вкраплениями алмазной крошки, под тусклым мерцанием вдавленных в потолок плафонов, на прозрачных вертящихся табуретах сидела компания отлично одетых людей. Один из них, Восковой, смахивающий на манекена, со сцепленными на столе руками, тихо и внятно, не поднимая головы, сказал: „Ну-с, господа, я задал вопрос, — и потом, после паузы: — Так где же он, господа? Чай, не на Марсе?“ — „Изволите шутить, ваше высокородие“, — иронически отозвался другой, с прилипшими к лысому черепу большими ушами, стремительно завертевшись на табурете. „Нимало, — сказал Восковой. — Я решительно настаиваю, чтобы поимка произошла немедленно. Это из рук вон, господа. Не полагаю, чтобы понадобились особые меры. Кончено“. Третий, похожий на мумию, какой-то Забальзамированный, который и звался-то Бальзамир Перепончатый (больше ни у кого из присутствующих имен пока еще не было), до тошноты маячивший туда-сюда на пол-оборота, притормозив, возразил: „Как? Извольте войти в мое положение. Ведь ситуация такова, что недолго и упустить. Велите-ка лучше дать вспоможение“. — „Право, теперь дать нельзя, — сказал, захрустев пальцами, Восковой. — Об исчезновении интересующего нас лица поползли нехорошие слухи. В народе волнение. Я не думаю, чтобы мы были вправе пренебрегать. Все наши теперь там…“ — „Полноте, подите с ними! — прервал его Бальзамир. — Сущая безделица, а не бунт — пошлите узнать. Напротив, судя по настроениям, народ в радостном ожидании перемен“.
„Я затрудняюсь утверждать правоту вашего рассуждения. Риск не в моем стиле. Поэтому поимка будет произведена малыми силами. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить гнусную провокацию известного всем лица, которое угрожает безопасности государства, мы выкрикнем свое „нет“, мы задавим зверя в его берлоге, — сказал Восковой без выражения на лице и, словно опомнившись, обратился к четвертому, который сидел, уставившись в одну точку впереди себя: — Да только поспеют ли? Завидят ли ночью огни? Что, смирны ли у них нынче лошади?“ — невпопад спросил он. Вперед Смотрящий в раздумье закрутился на табурете, но башка оставалась на месте, и он продолжал, вперившись, смотреть в невидимое пространство. Тут и другие пошли вращаться, некоторые завертелись до вихря. В особенности старался тот, горящий фосфорическим светом, который мелькал и мелькал, будто маяк в дурную погоду.
„Все это вздор, — вмешался Бальзамир, единственный не завертевшийся. — Нужды нет, что мы копыта-то избегали искавши, ноги, поди, прямо в жопу растут, а ты пиздеть!“ Восковой медленно поднял на него бездонные пустые глаза, в которых не было ничего — ни гнева, ни усталости, ни печали, а только отражение тусклых полночных ламп. „Рыло, — сказал он, — знай свое свиное корыто!“ И хрястнул кулаком что есть мочи. По стеклу разбежались мелкие паутинки. „Найти мне его, из-под земли, блядь, достать!“ Восковой заскрежетал по столу длинными, загнутыми внутрь ногтями. Другие с готовностью сделали то же. Пошел скрежет. Торжественно помолчали.
„Моя школа, — сказал Бальзамир, единственный не заскрежетавший. — Ты вот что, бляха-муха, охрану с долбаных складов сними, подкрепление дай, а то и вокзалов обставить нечем“. — „Вокзалов?! — в глазах Воскового заиграли мертвые зеленые огоньки. — Хули, ё-моё, сутки с побега прошли, а ты говоришь „вокзалов“! Да я тебя, сука, под трибунал! Я тебе ногти-то пообломаю!“ И он снова занес кулак. „Хуё-моё“, — передразнил его Бальзамир, взмахнув когтистой рукой. — Напрасно ты разохотился: хуяк, мол, и в дамки, и пошел ходить колесом… Отвыкать будет труднее — ведь мы еще поглядим, годишься ли ты на роль…» Кулак Воскового медленно опустился на поверхность треснувшего стола, и он воровато поник.
«Идеи-то есть, а, братва?» — желая замять скандал и промелькнув в повороте, прокричал тот, миролюбивый, с приклеенными ушами. Бальзамир кинул на Ушастого презрительный взгляд, но не успел сфокусироваться на его роже, в глазах зарябило. Он заморгал засохшими, словно листья в гербарии, веками, поскоблил пергаментные виски, потом не спеша достал из кармана белоснежной сорочки красный парчовый футляр, вынул из него пилочку и принялся остервенело пилить ногти, сдувая костяную труху с перепонок. Восковой же внимательно, словно впервые, рассматривал, широко растопырив, перепончатые свои пальцы. Они трусливо дрожали. «Везде посты, — тихо сказал он. — Чтоб муха, на хуй, не пролетела. В Данетотово, к матери, и туда, блядь, засаду. Просеять метро. Прочесать берег реки. Замести, в пизду, всех, кто мог быть причастен. К утру доложить. Все».
Спецоперация
Вдоль берега реки в кромешной тьме шли двое. Фонариков у них не было, так как один из них источал нездешнее фосфорическое сияние, освещая собой дорогу. Другой придерживал лапами огромные уши, которые, отлепившись от лысого черепа, лопотали на горячем ветру. «Я чего-то никак не пойму, — рассуждал Ушастый. — На что он им сдался? Ну сбежал — и сбежал. Хуй ли. Я лично думаю так: начать, как было задумано, поутру, раскидать книжки в народ, возмутить его в своей массе, поднять на кровавый бунт, а там, когда грянет, глядишь, Пиздодуй и объявится. Всенародная слава, сам посуди, не хуй собачий! Вот такой мой расчет». И он победоносно затрепетал ушами. «Тут, брат, высшие государственные воображения, тебе не понять», — авторитетно сказал Фосфорический и таинственно, мерцательно засиял. Лопоухий схватил его за рукав, поднес палец к губам. Остановились. Фосфорический, на всякий пожарный, слегка пригас. Ушастый локаторами навел уши, прислушался. Вывертывая кренделя, на середине реки плескалась мелкая рыба. Она выбрасывалась из воды, взмывала и, покувыркавшись над поверхностью вод, летела плашмя обратно. Двинулись дальше.
«Нет, ты погоди, или так… — не унимался Вислоухий. — Здесь ведь какая философия. Показать народу любой труп, хоть бы и свежий пойти выкопать. Кто его в глаза, настоящего, видел? А? Сечешь? Так и так, героически опочил в борьбе за правое лягушачье дело, убитый кремлевскими сатрапами за стихи, и, мол, хватит, хана, положим конец беспределу, когда всенародных избранников у нас на глазах нагло в открытую мочат…» — «Цыц! — цыкнул на него Фосфорический. — Трепло ты, Пизда Ивановна. Сколько раз нам Бальзамир повторял: не лягушачье дело — народное, а что лягушачье, так это в прогрессе потом выйдет, когда обустроимся.» — «Ну да, — ничуть не смутившись, сказал Ушастый. — И все как положено: цветы, караул, музыка. Доступ к телу. А потом, когда настоящий Степан Емельяныч объявится, кричать самозванцем, казнить прилюдно на площади — крюком, что ли, подвесить или как?» Ушастый заколебался. «Ну, это вопрос эспитических предпочтений…» — важно сказал Светящийся.
«И чего Восковой бздит? — продолжал рассуждать Большеухий. — Давеча я слышал, Бальзамир Перепончатый дохляка Воскового учил: ты, кричит, когда тебя в телевизоре показывают, чего руками-то суетишься? Чего взглядом бегаешь? Чего ногами чечетку под столом бьешь? Замри, кричит! Смотри в камеру и в их души пустотой своей проникай! А тот, слышь, жалуется: бзжу я, а что если меня раскусят. Казалось бы, из самих Перепончатых, чего ему бздеть?» — «Бздеть! — возмущенно сказал Фосфорический и от возмущения просиял. — Ты говорить-то сначала как человек научись. Бальзамир-то чего толковал? Выражайся! Язык — это все. Без языка, брат, ни шагу, ни к чему не подступишься. Тебя каждый раскроет и пальцем на тебя вскажет. Ляпнешь, положим, „бздеть“ вместо „бояться“ — и все, пиши пропало. Скусство речи, брат, вот это как называется!» Светящийся от волнения перегрелся, и Ушастый забеспокоился, что напарник не вовремя перегорит.