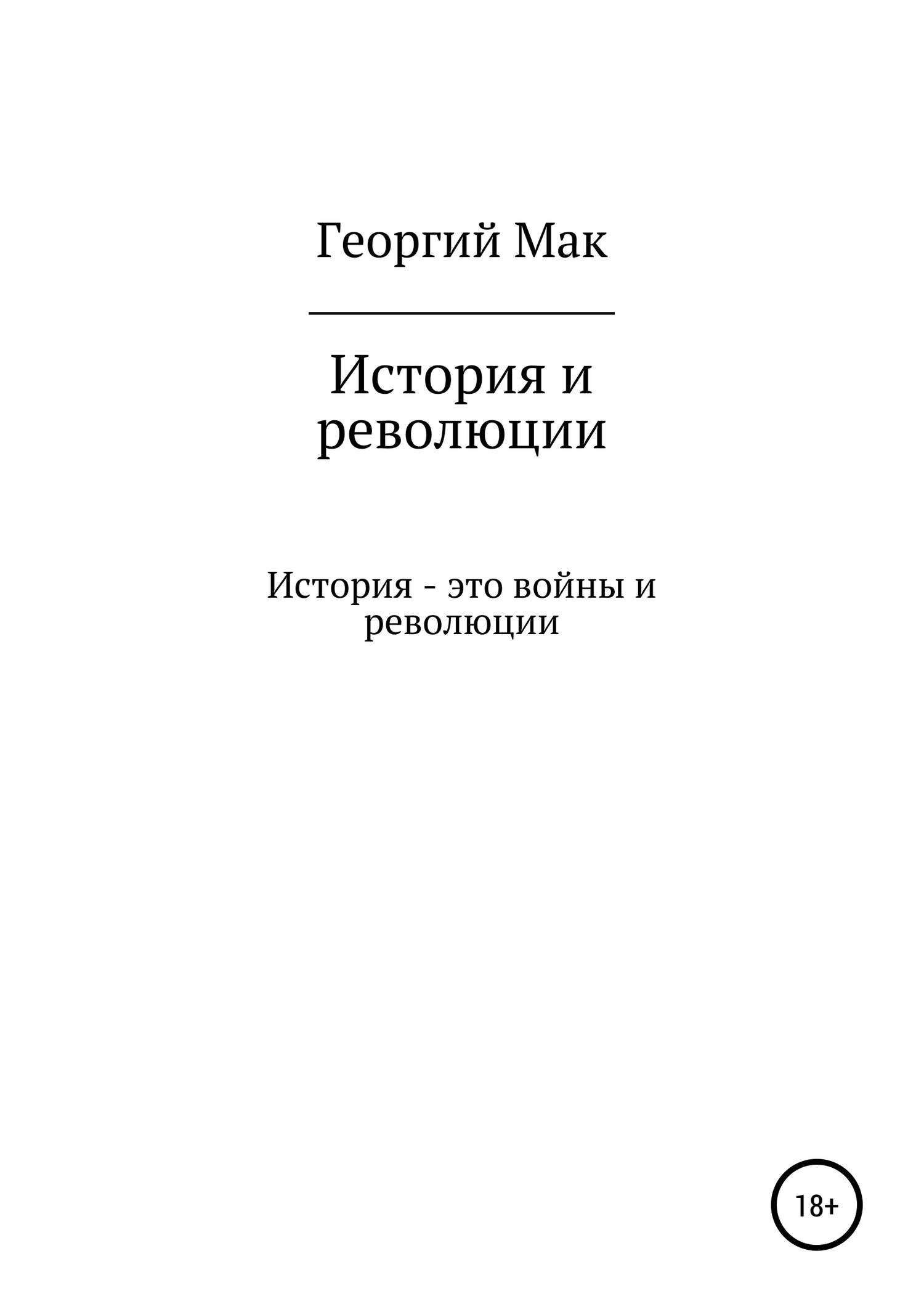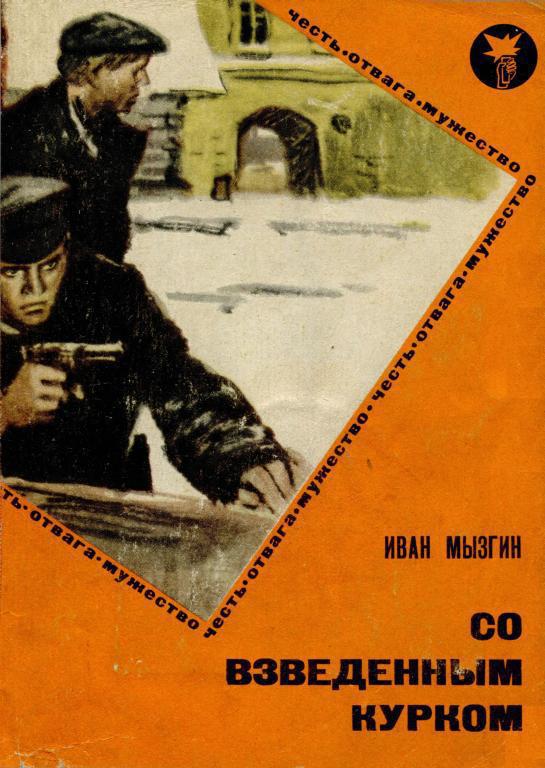за Серебряным бором, в Москву-реку. Дом был абсолютно пуст, но в некоторых комнатах находились кое-какие следы жилья – столы, кровати. Очевидно, остатки нерадивого детского дома или детсадика. Такие дома часто меняли хозяев, переходя из рук детдома в какую-нибудь артель, клуб или общежитие. Все новые хозяева вносили свою лепту в дело разрушения памятника чуждой и ненавистной им культуры прошлого, безвозвратно ушедшего века.
За Химкой, влево, живописно раскинулась русская деревня Иваньково – с огородами, полями, перелесками без каких-либо признаков близости урбанистической культуры. Это были последние годы НЭПа, и тогда еще можно было обнаружить много совершенно пустых и беспризорных помещичьих усадеб под Москвой. Мы решили посмотреть на нашу находку с другого берега речки Химки. Спустившись в ее долину и пройдя в деревню, мы узнали, что наш ампирный замок называется «Елизаветино». Издали он еще больше радовал глаз легкостью и стройностью своих архитектурных форм, простотой и изяществом деталей. «Елизаветино» входило в состав усадьбы Покровского-Стрешнева и, по-видимому, дом этот возник на рубеже 18 и 19 веков как какой-нибудь павильон – подарок или каприз кого-нибудь из Глебовых-Стрешневых, потомков того самого Родиона Стрешнева, которого Петр под пьяную руку называл, и, кажется, не без основания, своим «батькой», и у которого в этой усадьбе он певал на клиросе.
За деревней, в перелесках, виднелось несколько отдельно стоящих дач. Пройдя мимо одной из них, в Ибсеновском духе, с громадной террасой, мы узнали, что это дача Суллержицкого, одного из Мхатовцев.
Пройдя еще дальше, мы вошли в божественную березовую рощицу с идеально белыми стволами и изумрудной зеленью. В.Д. Собко расстелил свой знаменитый черный плащ Мефистофеля, сидя на котором он любил уноситься в фантастические грезы, игнорируя действительность. А.И. Малиновский и я разлеглись на нем тоже.
Уткнувшись носом в траву, что я всегда делал, наподобие Антея, я вдруг обнаружил перед своими глазами в большом количестве темно-лиловые фиалки, оказавшиеся чрезвычайно пахучими. Это были южные фиалки Крыма или Кавказа! Как попали они сюда: из Ниццы или Палермо?! Мне удалось узнать, что семена южных цветов попадают при весенних разливах рек в моря, а оттуда плывут, гонимые ветром, вверх по рекам Волге, Дону и их притокам и заплывают в самые глухие и удивительные уголки русского Севера. Действительно, я нашел однажды орхидеи на берегу Москвы-реки, около станции Москворецкая, Подольского района.
Оказалось, что в Иванькове уже много лет проживал художник Симов, известный декоратор Художественного театра. Как-то во время прокладки канала Москва-Волга театральный музей Бахрушина, обратился к Симову в связи с юбилеем Художественного театра с просьбой дать эскизы его декораций для выставки. Симов ответил запиской приблизительно такого содержания: «Какие эскизы?! Какие декорации?! Все кончено! Иваньково, в котором я прожил всю свою жизнь, сносят с лица земли! Всему конец!»
Немного позднее (т.е. до 1941 года), мне пришлось проезжать мимо Иванькова, или мимо того географического места, которое так когда-то называлось на карте. Вместо большой деревни и дачных строений разливалось большое озеро, образовавшееся путем запора воды речки Химки, высились какие-то бесконечные строения и заборы. Это воздвигался очередной новый индустриальный гигант. От одного из поэтических уголков Подмосковья не осталось и следа. Бедный Симов и «симовы»!
Новые заводы, стройки, фабрики, корпуса, трубы тянулись вдоль Волоколамского шоссе, как бы стараясь наверстать упущенное время и исправить допущенную оплошность в задержке коренного искажения буколического ландшафта старого Подмосковья. Здесь блиц-индустриализация, как и всюду, поглотила и повернула дыбом все известные нам исторические понятия, как например: Покровское-Стрешнево, Тушино, село Спасское, Павшино, Губайлово и др. Но тогда, правда, еще каким-то чудом уцелел сосновый островок влево от железнодорожного переезда в Стрешневе, где когда-то жила на даче семья Берсов и куда Лев Николаевич, тогда еще жених, ходил пешком из Москвы все 12 верст от заставы почти ежедневно их навещать.
Тут же за Покровским парком, близ Петербургского шоссе, было небольшое сельское кладбище, где была могилка Ванечки, о короткой жизни которого и его кончине, о каком-то просветленном уходе из нее, так потрясающе вдохновенно и трогательно рассказала Софья Андреевна Толстая в своих записках. На месте этого кладбища раскинулся теперь гигантский поселок стандартных домов.
Хотел бы я видеть, что будет на месте этого поселка через тысячу лет! А что-нибудь, да будет. Тебе отмщение и Ты воздашь!
…В кабинете отца стоял письменный стол, ранее принадлежавший бабушке – Надежде Филаретовне фон Мекк. У бабушки над этим столом висела картина, на которой была предусмотрительно прибита дощечка с надписью «Зима». Много и подолгу я смотрел в детстве на эту картину, желая обнаружить, что именно побудило (и кого?) назвать ее «Зимой» и зачем ее купили? Во всяком случае, нельзя было считать ее объектом для возбуждения каких-либо художественных эмоций. Можно подумать, что покупая ее где-нибудь в мебельном магазине (возможно, что вместе с тем же самым зеленым и плюшевым гарнитуром), мой дед или бабка поставили себе цель купить что-то в золотой раме и притом наименее художественное. Во всяком случае, эта была, – и надо думать, что к счастью, – единственная «картина» во втором этаже дома. Убогое время, жалкие вкусы!
Из коридорчика вела дверь на чердак. С площадки прямо шла дверь в шкафную комнату, где помещалась наша няня Степанида, а позднее Елена Ивановна, или Еленушка, няня моей сестры, поступившая в наш дом в год моего рождения и прожившая в нашей семье до 1922 года.
За перегородкой была дверь в так называемый «мамин WC», а с другой стороны – дверь в спальню родителей, самую светлую и приятную комнату верхнего этажа. Обставлена она была «скромно» – кроме кроватей и мраморного умывальника, в ней была ширма японская шелковая с какими-то экзотическими птицами и цветами, зеркальный шкаф, комод, круглый стол и два глубоких мягких низких кресла, почему-то всегда в чехлах. В углу киот с иконами и зеркало на туалетном столике. На стене – репродукция известной картины Маковского «Боярский пир» и акварельный рисунок «подсолнух и бабочка», приколотый на нем – мой подарок матери и мой первый opus в этом роде. В этой спальной комнате родился я и потом моя сестра. Упомянутая выше японская ширма имеет свою довольно любопытную историю (см. приложение)[4].
Из спальни вела дверь в другую детскую – моей сестры, расположенную над нижней гостиной. Сестра, вплоть до ее девичьей зрелости, страдала какими-то очень страшными припадками удушья, которыми пугала и родителей и всех домочадцев и которые никто из врачей, ни даже отец Иоанн Кронштадтский, не могли вылечить. Потом все прошло, и ее сыну Леве по наследству