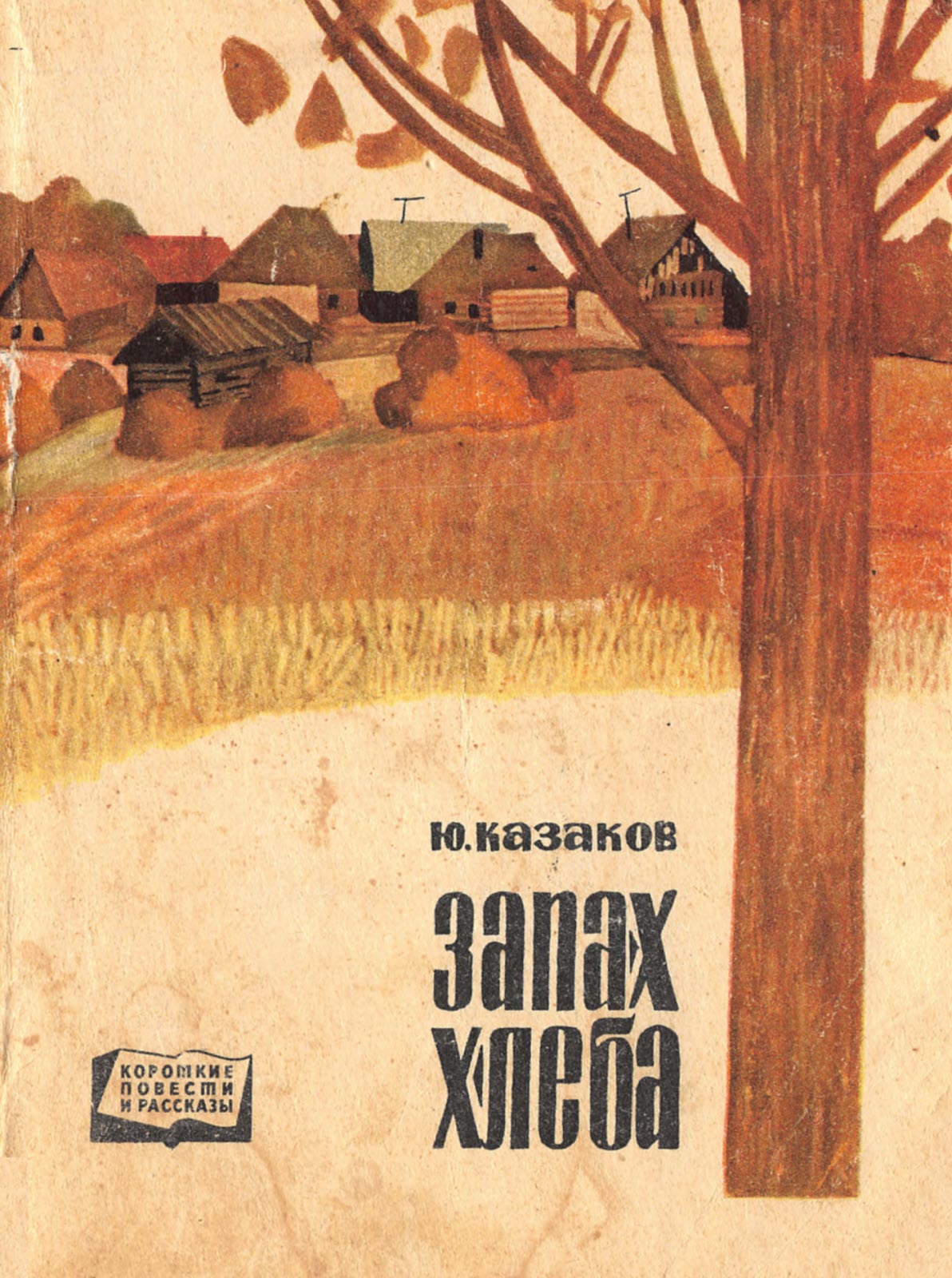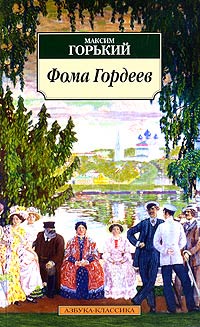учителя, — подумайте только, каким жестоким мог быть этот прилежный Пршемысл, — то завтра в его кабинете ты о них непременно узнаешь. А впрочем, поинтересуйся у своей дочери.
Не иначе как он потешался над матерью. Она не нашлась что и ответить ему. Прежде всего, выражение его глаз и лица испугали ее. Слова, пожалуй, она даже не воспринимала, это, скорей всего, неточные символы каких-то понятий. Но это злое молодое лицо, обращенное к ней, к матери… Сын, конечно, прав, время недоброе. С такими мыслями она пошла в кухню. Как раз воротилась Надежда — в каждой руке по бидону воды. За водой приходилось ходить на галерею, а нередко — когда в старом водопроводе не было достаточного напора — даже во двор. Надежда, поставив бидоны на приспособленный для этого кусок линолеума, даже не заметила, до чего обеспокоена мать.
— Я, матушка, не знаю, что угодно пану учителю, — недоуменно пожала плечами Надежда. И вынуждена была тут же выслушать очередную тираду о материнской жертвенности и дочерней неблагодарности. Это уже вошло в домашний обиход, как в других домах, допустим, чай на ночь либо стакан молока или яблоко.
На следующий день вдова Томашкова, освободившись на час от работы, поспешила в школу. Принял ее классный учитель и сразу же с волнением заговорил вовсе не об ученице Томашковой, а о положении молодой республики. Он высказал опасение, что он, как учитель, и она, как мать, затрудняют себя совершенно ненужными хлопотами. «Почему же ненужными? — подумала удивленная женщина. — Государства живут своей жизнью, а люди своей, и моя забота о детях куда как естественна». Озадаченная и обеспокоенная, она молча слушала непрерывные словоизлияния учителя, которые он — довольно комично — заключил рассуждением о способностях ее дочери Надежды, вполне достойных того, чтобы учиться дальше и тем самым в корне изменить столь жалкое социальное положение семьи. На это пани Томашкова не ответила, а лишь досадливо покашляла.
— Но я решительно, — продолжал негодующий учитель, которого эта женщина, неприступная, точно бетонный бункер, раздражала и побуждала к патетическим возгласам, — я как классный руководитель решительно не допущу, чтобы эта милостью божьей одаренная девочка тачала жирным мясникам платья и губила себя.
После долгого и напряженного разговора мать наконец уступила. Более всего подействовал на нее аргумент, что она обязана сделать все в память об уважаемой учительской династии Томашеков.
Возвращаясь от берегов Влтавы под холм Альбертов дорогой, ставшей впоследствии почти что исторической, мать едва не плакала. Вот так рухнули ее надежды, ее светло-голубой сон. Почему светло-голубой? Да ведь она же мечтала обзавестись голубоватой стеклянной вывеской с выведенной золотом надписью MODES ROBES. Еще удачнее была бы вывеска Maison Nadine — однажды она уже привиделась ей. Мать наконец-то покинула бы кухню, занялась бы бухгалтерией и домашним хозяйством.
Эту незадачу, это крушенье надежд она отнесла за счет времени и решила отныне более внимательно приглядываться к сему чудищу. Должно быть, время все-таки влияет на судьбы людские. Что же касается Томашеков, то к ним оно никогда не было милостивым.
После обеда она отправилась на кладбище. В кладбищенском покое и бессчетных тамошних ароматах смерть представилась ей блаженным исходом. Ночью она не могла уснуть. Сквозь тьму, озаренную уличными фонарями, глядела на портрет в овальной раме — мужчина, запечатленный там, уже не годился бы ей в мужья, такой старой и измученной она казалась по сравнению с ним. Она лежала и горько плакала, пока наконец не забылась тревожным, полным сумбурных видений сном.
На другой день, по совету старшей кухарки, она отложила изрядное количество провизии и постепенно стала относить домой — Антония была далека от мысли, что совершает что-то дурное, ведь она и ее дети были такими же пражанами, как и те, что подкармливались магистратом. Этим, собственно, и ограничился интерес Антонии ко времени. А как же ее дети? Что они думали по этому поводу? Этот вопрос возмутил бы женщину до глубины души: ее дети из хорошей семьи и прекрасно воспитаны — о разговоре с сыном она уже не вспоминала. Что ж, как вам будет угодно, сказал бы, наверное, задавший этот вопрос и предпочел бы тут же ретироваться. Да, от таких людей лучше держаться подальше. Впрочем, эта истина со всей ясностью проявилась несколькими годами позже, и прежде всего Антония, облаченная в свои вдовьи доспехи, стала ее жертвой.
Поскольку мать не считала своим долгом содержать Надежду дольше, чем того требовало бы обучение ремеслу дамской модистки, ее упорное сопротивление классному учителю — речь все-таки шла о будущем дочери — окончилось тем, что она согласилась определить Надежду в двухгодичное Коммерческое училище. По соображениям неясным, но, скорей всего, по совету своего хитроумного сына Пршемысла, мать выбрала учебное заведение, где преподавание велось на немецком языке. Для Нади, чьи школьные знания немецкого были весьма поверхностны, это представлялось сущей катастрофой. А главное — загубленные каникулы. Впрочем, шел 1938 год, можно ли было вообще думать о каких-то каникулах? Да еще учить немецкий! И неудивительно, что Надежда взбунтовалась и осенью поступила на чешское отделение этого прославленного училища. Насколько благоприятными оказались результаты этой внезапной Надиной решительности, теперь для нас ясно как божий день. Но тогда — во времена более чем минувшие — это «неблагодарное упрямство» вызвало немало попреков матери, поддерживаемой «прозорливым» Пршемыслом, который предрекал такие ужасы, что обеим Томашковым они представлялись просто невероятными, а потому смешными или вздорными.
Но прежде чем Надя стала посещать двухгодичное Коммерческое училище, произошло множество событий. Что можно о них сказать? Они оставили по себе привкус подавленности и невыносимого унижения. И Прага была разъедена этим ощущением, поражена малодушным страхом людей, подобных вдове Антонии Томашковой и других, еще более слабых, чем она. И все-таки город с затаенным упорством пробуждался к жизни и борьбе волей тех, о которых юная Надя в ту пору не имела еще ни малейшего представления. Однако не следует до времени беспокоиться: судьба отпустит ей сторицей, полной чашей и головокружительного счастья, и боли, а пока эта четырнадцатилетняя девочка совсем сбита с толку событиями, которые обрушиваются на нее безо всякой жалости, и никто не может ей ничего объяснить: мать что ни день таскает кульки с рисом, мукой, сахаром, отчего скудеет пища бедных детей, а брат Пршемысл яростно погружается в учебники общей медицины, ловко сочетая их с учебниками языка английского и немецкого. Мать в ответ на вопрос дочери лишь устало вздыхает. Она в великой печали, ибо ей кажется, что вся ее жизнь, ее жертвенность пошли