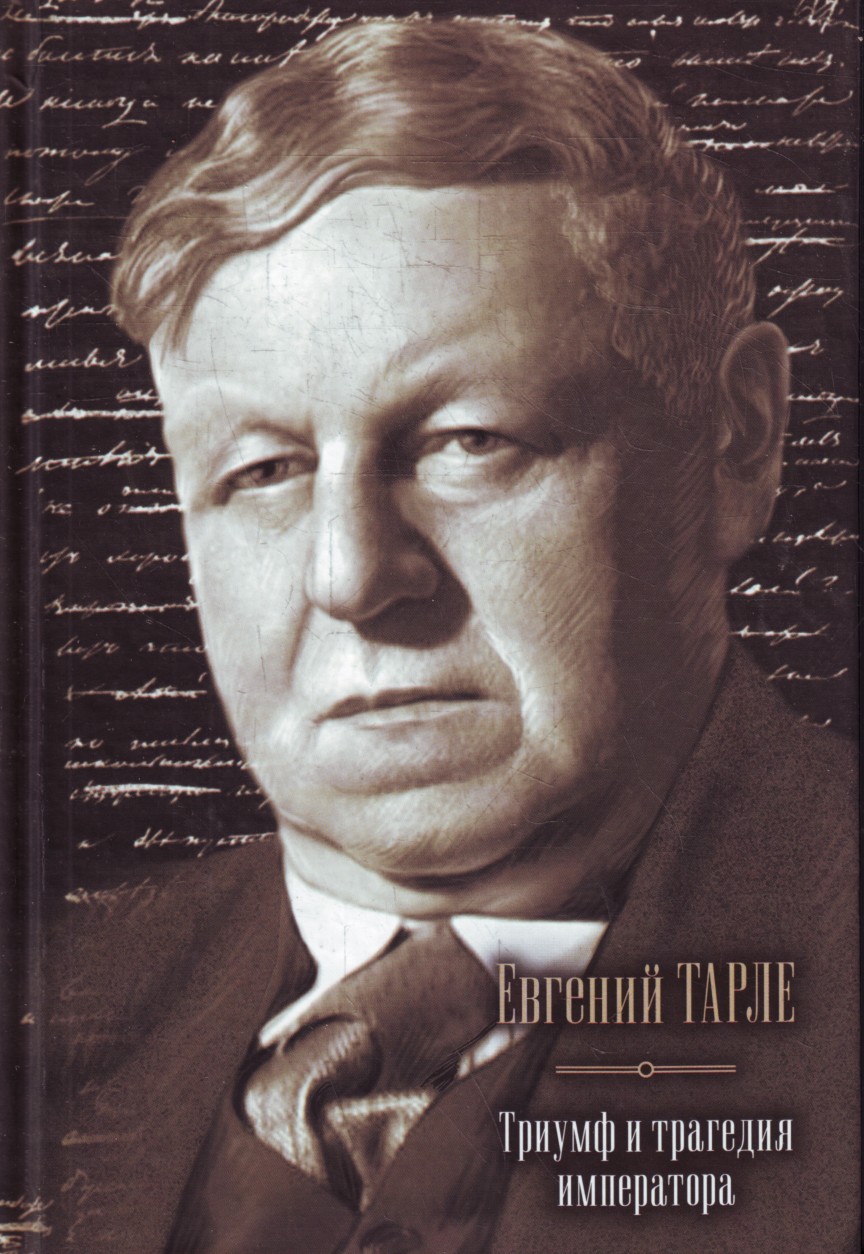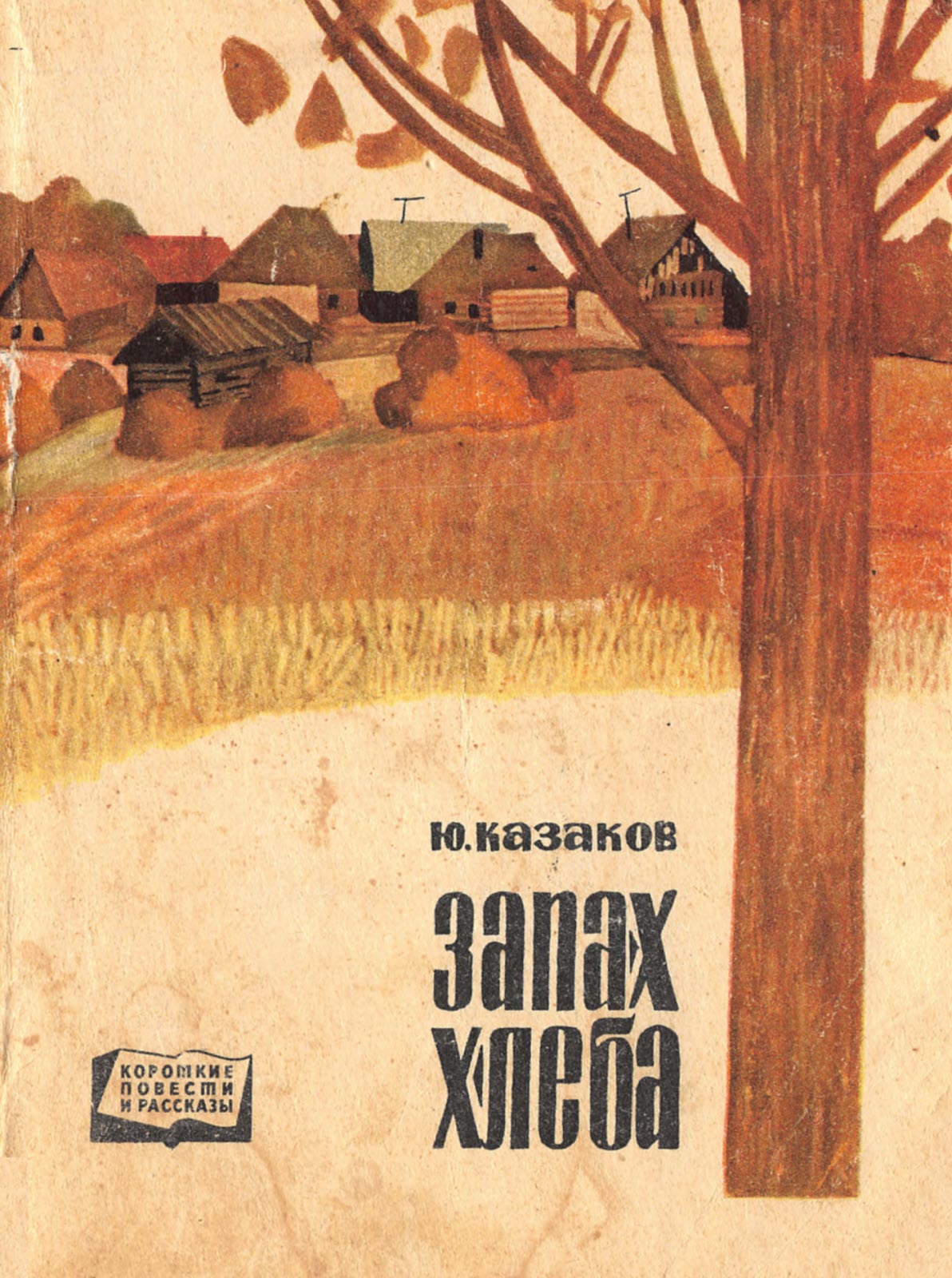проступало клеймо — багровый орел с квадратными плечами и по трафарету — люфт-почта. Длинные зеленовато-бледные стебли проросшего картофеля извивались омерзительно, как опарыши.
— Ну за что — ясно! Списки они имели готовые. По списку и арестовывали. Конечно, хватали и так, но больше по списку. Степана по нему сцапали. Долго в бумагу фонарем светили. Ирэ документа, биттэ! Персональ аусвайс? Пассиршайн, биттэ! И все время — биттэ, биттэ! Действительно, у кого не было, того лупандрили, будь здоров! А не было ни у кого. Только они привалились, сразу стали требовать немецкие документы. Чтоб их получить — марш-марш нах комендатур. К полицай-обер-секретарям. Хитрый народ! А через неделю тысячами погнали. По десять в ряд. Когда гнали — парадные заколотили досками, все кругом оцепили, чтоб люди текли, как река по ущелью.
— Ты в своем уме, Роберт? В какой ряд десять человек? По какому ущелью текли? Как тысячами? — путаясь в словах, суетливо спрашивала мама, повторяя одно и то же. — Как тысячами? Как тысячами?
26
Конечно, мы знали из газет и от раненых, что немецкая армия зверствует, расстреливает почем зря, но мы не могли себе все-таки вообразить облик толпы, идущей на казнь. На фотографической пластинке моей памяти ничего не возникало, кроме заключительных кадров из фильма «Цирк». Физкультурный парад на Красной площади, ослепительные улыбки Столярова и Орловой на фоне синего неба и разноцветные флаги спортивных обществ. А «Цирк» был еще черно-белым. Люди, правда, там, на пластинке, маршировали странным образом. Медленно, как в полусне, и взявшись крест-накрест за руки, будто собираясь плясать.
Кто сам не видел то грандиозное шествие на казнь, тот ни за что его не воспроизведет, каким бы даром ни обладал.
Через неделю после возвращения, мы с мамой отправились в трамвае за город к братской могиле. Рядом с кладбищем начинался бездонный яр, по-апрельскому голый, мрачный, замкнутый с дальнего конца руслом реки. Обожженные деревья, отвалы взрыхленной почвы, груды могильных камней. Пустынно. Ни трупов, никого. Посвистывает ветер, гуляет. Ступаешь по земле — и боишься провалиться, но почему-то не проваливаешься, и ничто вокруг не проваливается, хотя все должно провалиться и рано или поздно обязательно провалится. Ступать страшно — как по живому. От сознания, что под тобой мертвые. Им, конечно, не больно, но идти и думать про это — ужас.
За кустами, по ямам гниют почерневшие тряпки. Я ткнул палкой в кучу — подцепил трусы. В непонятном бешенстве я разворотил ее — рубахи, кальсоны, бюстгальтеры, детские панамы и даже зимние варежки с оттопыренными пальцами…
Какие они, однако, целые, только мокрые. Одежда лежала в тишине, сохраняя что-то человеческое, словно ее хозяева отошли к реке искупаться.
Каждую весну с того распроклятого дня, когда стает снег и в воздухе потянет запахом прошлогодней листвы, я чувствую жестокие укоры совести, ибо высшее благо, оказывается, — разделить судьбу друзей и родных. К этой мысли приходишь с возрастом. А я покинул их, не успев попрощаться со многими, бежал от расстрела, и вот невредимый попираю ногами землю, в которой кровавым сном забылись ни в чем не повинные души.
Хорошо, хоть Роберт Шапошников и Сашка Сверчков живы.
27
— Ладно вам! Обвыкнете, разберетесь сами! — холодно отрубил Роберт. — Дернули отсюда. Липистричества в гимназии нету, — и он загадочно подмигнул, — а рассмотреть вас надо, — заключил он покровительственно и в ту же секунду стал чужим, взрослым.
Мы выбрались из подвала на улицу. Навстречу по небосводу тяжело двигалась клубящаяся фиолетовым лавина. Ее отблеск падал прозрачной акварелью на оконные стекла и купола соборных колоколен. А ближние тучи летели мимо стремительно, косовато, парусами над гладью озера — вот-вот заденут обнаженные ветки тополей.
Отдаленным перестуком чумацких телег по булыжнику докатывались мелкие вспышки грома. Так, на рассвете, к Бессарабскому базару подъезжали, погукивая, селяне из пригородных хуторов.
Порывы ветра опережали гром. Они взвинчивали над развалинами серую скрипучую пыль. Просторное небо хмурилось, негодующе нависало над сожженными коробками.
— Рогатих бачили? — спросил Роберт.
Рогатые, вероятно, немцы? Мама закусила губу, смолчал и я. Пленных румын и венгров мы видели много, а немцев нет. Впрочем, однажды наша платформа угадала напротив потрепанной теплушки с таинственными иероглифами, смысл которых меня заинтересовал. Под трафаретом — «Тормоз Вестингауза» и «Мос.-Каз. жел. дор.» было намарано мелом: «Ст. наз. Свердл. Ох. 2, 35 пл. Под кон.» А ниже четко, но с выкрутасами — «Екатерина Александровна, я люблю тебя».
На вагонном кладбище, за вокзалом, уже после войны, сосредоточили товарняк с клеймом — «75 pers.», пригнанный из Германии. 75 — хуже сельдей в бочке. Стоймя! Наши сажали, между прочим, на 40 пленных меньше.
В углу теплушки, к схваченному скобами оконцу, жалась изнутри щетинистая физиономия. Водянистые, плексигласовые, как у дохлой рыбы, глаза под толстыми стеклами очков. Судорожно раскрывая черно-золотую пасть, немец втягивал в себя свежий, отстиранный дождем воздух. Несколько минут — и его сменил юнец в солдатском кепи. А я нарочно торчал в люке танка.
Сейчас машинист дернет, и я помчусь на фронт крошить врага. Я беспощадно отомщу за слезы тысяч матерей.
— Ишь, вызверил зенки! — ткнул в сторону пленного Одиноков.
Старший лейтенант тоже не встречал немцев. А на Сарычева и Хилкова они не произвели особого впечатления. Скольких перестреляли и гусеницами перемололи в бою!
— Ничего он не вызверил. «Шмайсер» в сторону, руки хенде хох — и человек человеком, жрать и курить просит, — пояснил скучно Сарычев. — Эсэс — иная штука. И власовцы.
— Человек человеком? — раздраженно спросил Одиноков.
— Без автомата любой — человек человеком, — повторил упрямясь Сарычев.
— Воняют тевтоны жутко — эрзацем моются, человечьим мылом то есть, и курят дерьмо! Наш самосад разве гнилой дух дает?! — хвастливо сказал Хилков.
Я не поверил. Как можно курить дерьмо? Насчет мыла и подавно усомнился. Его — утверждали мальчишки — на собачьем сале варят, но чтоб на человечьем?! А не пошел бы он к чертям, фашист! Я крепче ухватился за край башни — паровоз дернул. Мимо проплыли ржавые от небритости щеки, острый нос и обескровленные губы — в ниточку, затененные сломанным пополам козырьком.
28
— Похудали, а так здоровы, — констатировал Роберт, окидывая нас критическим взором. — Утром мне обязательно надо в лагерь на перекличку. Днем шукаю по развалинам одного типа, — и Роберт зашагал вперед по Правительственной улице.
Что за ерунда, что за лагерь? Какие теперь вообще могут быть лагеря?
— Не дрейфь, — продолжал Роберт, — немчики — народ дошлый. Устроились — будь спок! Как боги на курорте.
Я за немчиков не дрейфил. Пускай — не жалко. Я хотел обсудить