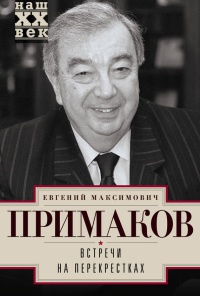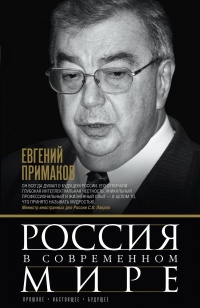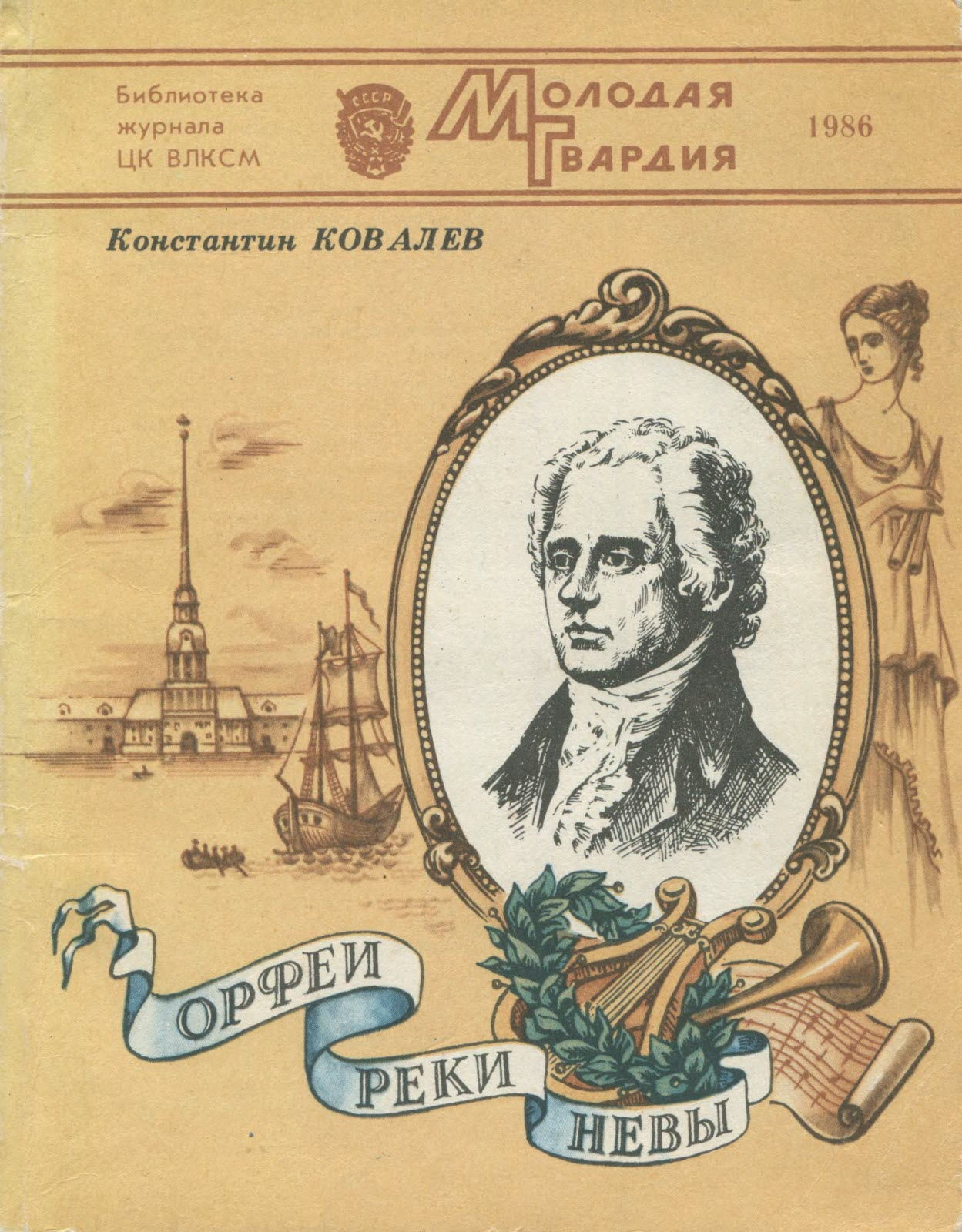Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 105
серьезно подготовились к этой встрече, изучив опыт Швеции, ФРГ. На совещании в Кремле предложили схему объединения нескольких десятков хромающих на обе ноги подшипниковых заводов в четырех научно-производственных структурах. В ту пору речь могла идти лишь о преобразованиях в рамках государственной собственности. Но, к удивлению многих присутствовавших, мы разъяснили, что все четыре объединения будут выпускать однотипную продукцию — так мы обеспечим конкуренцию. Тогда взял слово министр автомобильного транспорта и, обращаясь к председателю Совмина, сказал: «Я обещаю прорыв в подшипниковой области другим путем — мне нужен еще один заместитель министра».
Будучи умным человеком, Николай Иванович прервал заседание, сказав министру: «Вы явно не готовы к обсуждению». Но в Кремль по этому вопросу нас больше не вызывали…
Помню, как еще во времена Брежнева Иноземцев пригласил меня к себе домой поужинать. Он был явно взволнован. Сказал, что ему, тогда кандидату в члены ЦК КПСС, впервые предложили выступить на пленуме Центрального комитета. С трибуны пленума Иноземцев, говоря не по бумажке, что тогда считалось чуть ли не кощунством (ведь это речь на пленуме!), возразил против монополии на внешнюю торговлю даже не государства, а, как он справедливо сказал, Министерства внешней торговли СССР. Второй темой была необходимость целенаправленной работы для обеспечения наилучших результатов на прорывных направлениях научно-технического прогресса. Все бы ничего, но академик Иноземцев привел в этом отношении в пример капиталистическую Японию. Николай Николаевич был очень удручен, когда ему передали реплику одного из руководителей по поводу этого выступления: «Вы разве не видите, он нас пытается поучать!» А бессменный помощник нескольких генеральных секретарей, остроумный, едкий A. M. Александров-Агентов сказал Иноземцеву: «После вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой: либо нужно выводить из ЦК интеллигентов, либо делать ЦК интеллигентным».
Много шишек набил себе ИМЭМО, доказывая изменившийся характер капитализма. В штыки встречались догматиками, а они верховодили, во всяком случае в отделах науки и пропаганды ЦК КПСС, такие бесспорные положения, выдвигаемые сотрудниками ИМЭМО и некоторых других институтов, как способность современного капитализма добиваться серьезных успехов в экономическом регулировании на макро- и микроуровнях.
Это кажется ныне забавным, но ИМЭМО не без причины считал тогда одним из своих несомненных достижений то, что впервые было заявлено во всеуслышание о необратимости и объективном характере экономической интеграции в Западной Европе.
А опровержение ИМЭМО постулата о неизбежности абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме! Ведь из этого постулата выводится постулат о неизбежности революции, свергавшей капиталистический строй.
Пожалуй, самым главным препятствием, мешавшим реальному представлению об окружавшей нас действительности, было отрицание конвергенции, то есть взаимовлияния двух систем — социалистической и капиталистической. Между тем в ряде работ ИМЭМО, например, отстаивался тезис о совместимости социализма с рынком, рыночными отношениями. Сама жизнь подталкивала к этому выводу.
Были и живые примеры, подтверждающие конвергенцию. В середине 1970-х годов я познакомился с В. В. Леонтьевым — одним из крупнейших американских экономистов, получившим всемирное признание за разработку и внедрение в экономическую практику США линейного программирования. Леонтьев в 1920-х годах работал в Госплане, в Москве. Будучи направленным в торгпредство в Берлин, стал «невозвращенцем», а затем переселился в Соединенные Штаты, где разработал свою теорию, в которой, в частности, смело и умно применил некоторые госплановские навыки и идеи.
В 1970-х он был гостем ИМЭМО, и Иноземцев пригласил его поужинать к себе домой. Незадолго до этого Ник Ник (так за глаза его многие называли в институте) въехал в шикарную квартиру — построили дом для членов Политбюро, но те в последний момент не захотели жить все вместе и отдали этот «нестандартный» дом Академии наук, которая распределила квартиры среди ученых. Леонтьев обошел все многочисленные «закоулки» — зимний сад, библиотеку, гардеробную, сервировочную комнату, холлы — и, прищурив глаз, спросил: «Николай Николаевич, вот смотрю и думаю: а может, мне и не стоило уезжать?»
Трудно было рассчитывать на то, что «старая гвардия» потеснится и уступит место тем, кто шел изнутри к обновлению системы. Противники ИМЭМО начали атаку на Иноземцева. Это было уже после того, как в 1977 году я стал директором Института востоковедения — тоже важного академического исследовательского центра, сопоставимого по размерам с ИМЭМО, но меньше связанного с выработкой политики и с хозяйственной практикой в СССР. Но, совершенно естественно, я, сохранив все связи с ИМЭМО, переживал за своих товарищей. Провокаторы пытались воспользоваться тем, что два молодых сотрудника этого института были арестованы по обвинению ни больше ни меньше как в сотрудничестве с западной разведкой (позже обвинение не подтвердилось и они были с извинениями освобождены), затем последовали доносы на самого Иноземцева, «создавшего такой климат в институте». В кампании против ИМЭМО активно участвовал член Политбюро и секретарь Московского комитета партии Гришин, а также отдел науки ЦК. Подробности мне рассказал Ник Ник, которого я посетил в больнице на Мичуринском проспекте — у него резко ухудшилось здоровье.
Узнав от Арбатова и Бовина о происходившем с Иноземцевым, Брежнев позвонил Гришину, и тот, будучи председателем специально созданной «по делу ИМЭМО» комиссии, не на шутку перепугавшись, на вопрос, что там делается с Иноземцевым и его институтом, ответил: «Ничего об этом не знаю, Леонид Ильич, разберусь незамедлительно». Это означало конец открытой атаки. Противники нового затаились… А Н. Н. Иноземцев в 1982 году скончался от сердечного приступа. После него три года директором ИМЭМО был А. Н. Яковлев.
Нельзя не сказать и о том, что в самые застойные годы настоящим «островом свободомыслия» была Академия наук СССР. Парадокс заключался в том, что преобладающая часть ученых-естественников, а они задавали тон в академии, была так или иначе, прямо или косвенно связана с «оборонкой». Казалось бы, эта среда меньше всего подходила для политического протеста, больше всего должна была бы способствовать подчинению диктуемой сверху дисциплине. А получилось совсем не так. Я был избран членом-корреспондентом АН СССР в 1974 году, а в 1979-м — академиком. Естественно, посещал все общие собрания, и на моих глазах часто разворачивались события, далеко не характерные для тех времен. Помню, как все руководство чуть ли не на ушах стояло, чтобы провести в академики заведующего отделом науки ЦК Трапезникова — одного из близких к Брежневу людей. На общем собрании академии его «прокатили».
Срабатывал синдром негативного отношения ученых к партийным и советским функционерам. Еще в члены-корреспонденты могли кое-кого пропустить, но в академики, как правило, нет. Вспоминаю общее собрание, на котором голосовалась в действительные члены АН СССР кандидатура члена-корреспондента, министра высшего образования Елютина. Известный физик академик Леонтович задал вопрос: «Что сделал Елютин за тот период, который его отделяет от членкорства, то есть за четыре года?» В ответ был приведен перечень работ, написанных претендентом и самостоятельно, и в соавторстве, и научным коллективом под его руководством. После этого академик Леонтович вышел на трибуну и сказал: «Если Елютин так много успел сделать по научной части,
Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 105