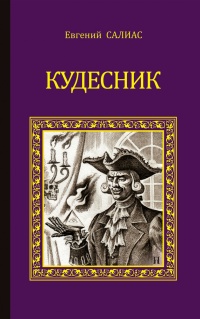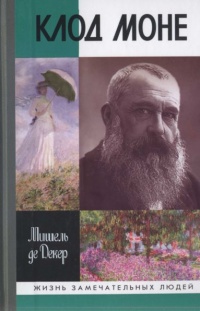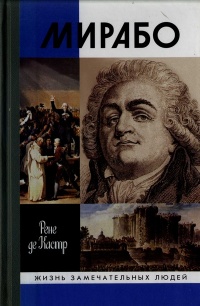себе барской барыне Прасковье Ивановне, которая сидела за рукодельем в своей отдельной, большой и даже уютно устроенной и убранной комнате.
Нянюшка вышла к кучеру и спросила, что ему нужно, предполагая, что дело идёт об овсе или сене, или о чём-либо касающемся до лошадей.
Дело это её не касалось, но Прохор любил совещаться с своей соотечественницей, которую почитал, конечно, более всех в доме.
— Ну, что тебе? — спросила Прасковья Ивановна, выходя в девичью, где сидело за работой около дюжины горничных.
Все они пересмеивались с красивым кучером, но смолкли при появлении няни.
Прохор отвечал на вопрос по-татарски и лицо няни приняло сразу более серьёзное выражение.
Они говорили на своём языке только когда бывали наедине или же в особо важных случаях, ради того, чтобы не быть понятыми окружающими.
Мамушка переспросила что-то, быстро, скороговоркой, и пытливо впилась чёрными глазами в кучера. Он отвечал. Лицо Солёнушки вдруг преобразилось так, что все горничные заметили это и поняли тотчас, что Прохор-Ахметка сказал что-нибудь особенно важное.
Лицо мамушки было чудное, будто восторженно-встревоженное. И обрадовалась она, и испугалась вместе!.. Перемолвившись ещё, по своему, она впустила к себе в горницу молодца, а сама быстро пошла к своей питомице.
Княжна тоже сидела за работой, вышивала, склонившись над пяльцами, мелкую, мудрёную и кропотливую работу, от которой у ней рябило в красивых глазах. Золото и серебро в нитях, шёлк, и разный цветной бисер, — были рассыпаны кругом по пяльцам и на полу...
Княжна не любила рукоделий, но тоска и одиночество заставляли её поневоле убивать время за пяльцами и охлаждать пылкую голову, занимая её стежками, да строчками, да нанизываньем бус и бисера на канвовый узор.
Но сколько раз за этим занятием, в особенности за последний год — задумается княжна, забудет не только пяльцы, но весь мир... и придя в себя, глубоко и тяжело вздохнёт!..
Когда Прасковья приходила к своей питомице не от князя и не по делу — то княжна, взглянув на неё, всегда говорила:
— Присядь, да расскажи что-нибудь про Крым.
Но теперь, когда мамушка вошла, и княжна, подняв голову, взглянула ей в лицо, то на минуту замерла. Затем, толчком отбросив пяльцы, она вскочила порывом на ноги и прыгнула к любимице-пестунье. Молчаливый взгляд татарки сказал ей всё...
— Солёнушка! — вскрикнула Анюта. — Правда ли? По лицу вижу! Правда?! Говори...
— Правда, моя родная!..
Княжна как-то задохнулась, вся зарделась румянцем и вдруг слёзы в три ручья хлынули у неё из глаз.
— Господь с тобой! — испугалась Прасковья, бросаясь к ней.
— Ничего! Ничего! Это от радости, — всхлипывая, едва могла проговорить княжна. — Кто сказал? Кто видел?
— Прохор. Сейчас мне сказал. Сам, своими глазами видел.
И этот день остался памятным днём в жизни Анюты.
Вечером того же дня, ложась спать, князь призвал к себе своего любимого человека, дворецкого Феофана.
Он видел дочь в сумерки и заметил в её лице перемену, в её движеньях, в её глазах, в её голосе, — что-то особенное. Южная и страстная натура, огненная кровь "Крымцев», как говорил князь — выдавали себя всегда в его дочери. Одни глаза княжны так "прыгали" за ужином, что князь догадался о чём-нибудь чрезвычайном, случившемся с дочерью, но не спросил ничего.
— Ну, Феофан, что у нас есть негаданного? — сказал князь при появлении дворецкого.
Феофан, старичок, маленького роста, немного сгорбленный, чисто и тщательно выбритый по морщинистому как сморчок лицу — привык к этому вопросу. Он стал в почтительном расстоянии от барина и выговорил бесстрастно и чуть-чуть хрипло:
— Ничего, ваше сиятельство.
— Ничего? А?.. Ничего? Опять проворонил!!..
— Ничего я не проворонил, — хладнокровно отозвался Феофан.
— Вот и врёшь! Или от старости в ротозеи и простофили вышел!.. — холодно, но не сердито сказал князь, укладываясь в постель.
— Не знаю. Может вам лучше известно, — слегка будто обиделся любимец.
— То-то вот и есть, что мне лучше известно. А ты, старая крыса, и под носом ничего не видишь...
— Что ж. Перечить не смею... Будь по-вашему. Только доложу... Это вам так сдаётся, али кто сбрехнул. А ничего у нас такого нет. Кузьма-казачок ногу вывихнул, прыгая чрез лужу, так эвто вам...
— То-то: Кузьма?.. Ногу?.. У княжны на половине есть такое, негаданное... А он с Кузьмой... Эх ты, старый хрыч.
— Знаю, что старый, — не обиделся, а сделал снова, вид, что обижается, Феофан. — У княжны?! Что у княжны? Агафья чайник разбила... Так это опять...
— Филин ты, филин!.. А ты вот что скажи. Отчего у княжны сегодня глаза прыгали?
— У княжны? Прыгали?
— Да у княжны! Прыгали! Огнём горели, как уголья? — самодовольно проговорил князь, счастливый при воспоминании, что дочь в особенности глазами похожа на свою покойную мать, память которой была ему так дорога.
— Не знаю... — нерешительно выговорил Феофан, помолчав.
— Ну вот... Так разузнай, филин, а завтра мне доложи. Ну, Бог с тобой, спать пора.
Феофан, выйдя от барина-князя, направился прямо в швейцарскую, где вечно сидел её повелитель — швейцар. Андреян, силач и великан, ростом известный всей Москве. У этого добродушного и глуповатого богатыря была, казалось, самая неподходящая к его внешности страсть. Он обожал и разводил у себя в горнице канареек. И что уходу требовали его питомицы!
Глуповатый великан было однако хитёр по-своему.
— Андреянушка? Что у княжны с Солёнушкой приключилось? У тебя ведь глаз вострый? — спросил Феофан садясь и потчуя швейцара из тавлинки.
— Свиное ухо со двора бегало! — заявил Андреян прямо.
— Ну? Так что ж! Прошка тут не при чём. Я тебя про княжну да про мамку спрашиваю.
— А я сказываю про свиное ухо! Он без позволения со двора бегал, да задними воротами. А вернув, прямо к Солёнке наверх. Ну вот у них и сполох теперь.
— Да в чём дело-то? Как это пронюхать?
— И нечего нюхать! Слыхать и так на сто вёрст кругом. Гвардией запахло, Феофан Иваныч. У нас запахло?
— Вот? Врёшь?.. Как можно?
— Верно. Вишь сколько их в Москву нашло... Ну, и к нам постоя жди! двусмысленно подмигнул великан.
— Правда твоя, Андреянушка, — обрадовался Феофан. — Как, же это мне невдомёк. Да и князь тоже не прочуял.
— Нет. Князь-то прочуял, да на свой гнев у него вся надежда. А его гнев что?