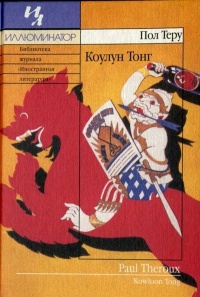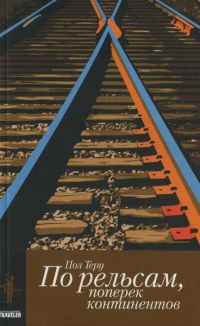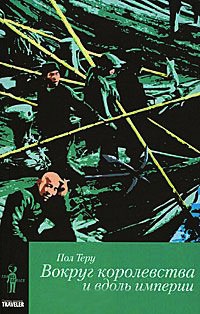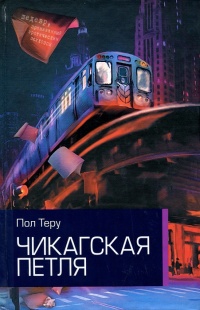И еще я увиделся с Энтоном. Мы встретились в пивной рядом с Клэр-колледжем, его колледжем. Он спросил, как идет работа над китайскими записками, и я вдруг поймал себя на том, что рассказываю ему не столько о книге, сколько о предложении сняться в кино. Мог ли я заподозрить, что человек его возраста (Энтону исполнилось двадцать) проявит такую осведомленность о вкусах и предпочтениях общества, особенно когда речь зашла о кинематографе!
Энтон сказал:
— Это же классно. Я бы жутко хотел, чтобы меня попросили сыграть в кино.
— И ты бы согласился?
— Еще бы!
Потом он смутился — авансом: за меня, да и за себя тоже.
— Но ты же не собираешься сниматься?
Я выставил вперед челюсть и продекламировал с важным видом: «Ступай вперед, и пусть не зря пройдет мой день!»
Он нахмурился, покачал головой и оглянулся по сторонам — не слышит ли меня кто-нибудь, — потом наклонился поближе:
— Ты не играешь. Это так, наметки.
Неожиданное слово — «наметки». Удивленный, я молчал.
— Ты притворяешься. Чисто внешне. А это, — он постучал себя по груди, — не участвует.
— Не огорчайся, просто я ненавижу театральную игру. И терпеть не могу, когда люди актерствуют. Сплошной стыд.
— Однако есть и такая вещь, как великое актерство.
— Великое актерство я больше всего ненавижу. «Коня, коня! Венец мой за коня!»[82]Куда приятнее смотреть на любителей или импровизаторов.
Я подумал обо всех этих громко кричащих и топающих ногами на лондонской сцене лицедеях. Много долгих часов провел я в театре и, пожалуй, почти ни разу не получил удовольствия. Просто я верил актерам не больше, чем куклам. Зато сколько было фильмов, от которых перехватывало горло, которыми я не устаю восхищаться!
Мы с Энтоном всегда беседовали как отец с сыном, но сегодня в роли сына выступал я, а он, побледневший, глядел на меня отечески, стараясь скрыть свои сомнения и дурное предчувствие: как бы я не попал в глупейшую ситуацию. Надо было или не заводить с ним разговор о кино, или объяснить все более вразумительно.
Размышляя об этом на обратном пути из Кембриджа и созерцая в окошко мирные, разутюженные дождем поля, я испытывал благодарность к Энтону, подарившему мне слово «наметки». Существует ведь и такой способ писать — только намечать, набрасывать. С того самого момента, как Эриел позвонила мне со своим предложением сыграть в кино, я прекратил писать и начал делать наброски.
А возмущало меня во многих актерах то, что им платят деньги и расточают похвалы: я то же самое бесспорно мог бы делать лучше. Все же видят, как они играют. Есть целый набор стереотипов: актерская внешность, актерская прическа, актерский смех… Актеры даже не ходят как нормальные люди, они переступают ногами медленно и словно бы стесняясь. В тысячу раз лучше, когда персонаж все делает по-человечески и на все по-человечески реагирует. Как в старых фильмах шестидесятых, оказавших на меня огромное влияние. Особенно у Феллини, который явно любил непрофессионалов. У них были живые лица и живые голоса. Я подумал: сама идея ненависти к актерам — пожалуй, удачное начало. В этой роли мне не понадобится играть. Я буду обходиться с ней, как обхожусь со своим собственным текстом, живя в каждом написанном мной слове, в каждом характере.
Когда я проснулся на следующее утро, погода весьма располагала к работе — прохладная, безветренная; приглушенный свет навевал легкую печаль, низкое лондонское небо покрыли серые облака, похожие на взъерошенные перья. Я сел к столу, но не мог писать; и среди почты как назло не было ничего, способного привлечь мое внимание. Возможно, сценарий задержали британские таможенники; такое порой случалось с деловыми бумагами у этих никому не доверяющих бюрократов.
Парень-то у нас писатель! Вот что самое главное. Эриел сама это подчеркнула. Только литератор все знает про литературу. Потому-то я никогда не чувствовал себя неуютно во время телевизионных интервью и ни капельки не нервничал. О моей работе меня могли спросить что угодно — я ответил бы на любой вопрос. И о моей жизни я не представлял себе вопроса, который уже не был бы продуман. Мои книги были видимой частью моей души. И я не мог отделить свой труд от себя самого. То была не работа, которую я выполнял, то был процесс моей жизни.
Облака, потемнев, сгустились, хлынул ливень, крупные капли, будто хрустальные бусины, громко застучали в саду, дождь обрушился на покрытую шифером крышу дома поменьше, стоявшего по соседству. Я следил, как переполнился желоб на крыше и вода хлынула через край, заливая кирпичную стену, как листья, сорванные с деревьев, тяжелели, падали и сбивались вместе, похожие на кучи мокрого тряпья, как, сжавшись в комок, забилась под куст кошка.
Увесистые дождевые капли барабанили в окно, вода ручьями сбегала по стеклу. Тревожный разлад в природе действовал на нервы. Мне стало не по себе. Я был слишком возбужден, чтобы работать.
Я стоял и смотрел на дождь, раздумывая о том, что писательство, в сущности, стало единственным делом моей жизни. Оно защитило меня, избавило от необходимости искать заработок, оградило от массы ненужных вещей, уберегло от службы в какой-нибудь скучной конторе, позволило не зависеть от жалованья, раскрепостило и сделало нормальным человеком. У меня не было начальника. Я не нуждался в разрешении писать. А вот все актеры, до единого, должны ждать, пока настанет их черед произнести реплику. И под началом у меня никого не было. Я был свободен. Какой актер может сказать о себе то же самое?
Только писатель знал все это, и только писатель мог сыграть роль Писателя. Меня попросили поразмыслить — не соглашусь ли я на роль американского литератора в английском фильме. Мне этот вариант подходил. Потому что герой был тем же, что и я, — американским писателем в Лондоне. Житье в Лондоне являло собой скорее науку, чем искусство. Вы приобретали вкус к этой жизни и оттого сами становились лучше. Я развил в себе нужные качества — не англофилию, но терпимость и умение не завышать ожидания. Я был зритель, очевидец. Чем дольше я размышлял, тем больше убеждался: Эриел сделала правильный выбор, предложив эту роль именно мне.
Прошло несколько дней. Я все еще не мог работать над китайской книжкой. Вместо этого я занялся розысками. Бродил между стеллажей лондонской библиотеки, ища алфавитный указатель книг о путешествиях. Мне были нужны названия малоизвестных городов, где я останавливался в Китае. Мне был нужен стимул. Я делал записи и старался быть занятым.
Еще одну замечательную историю я услышал от одной женщины в Нью-Йорке. История произошла с ее подругой, которая в самолете познакомилась с неким мужчиной. Мужчина был темнокожий — возможно, уроженец Среднего Востока. Они обменялись телефонами, и в тот же день новый знакомый позвонил и пригласил ее на обед. Женщина отказалась: она на неделю уезжала из города. Вернувшись домой, она обнаружила, что ей доставили гигантское комнатное растение в кадке. Несколько дней спустя принесли корзину деликатесов, а через некоторое время явился посыльный с браслетом. Все презенты были от человека, с которым женщина познакомилась в самолете.