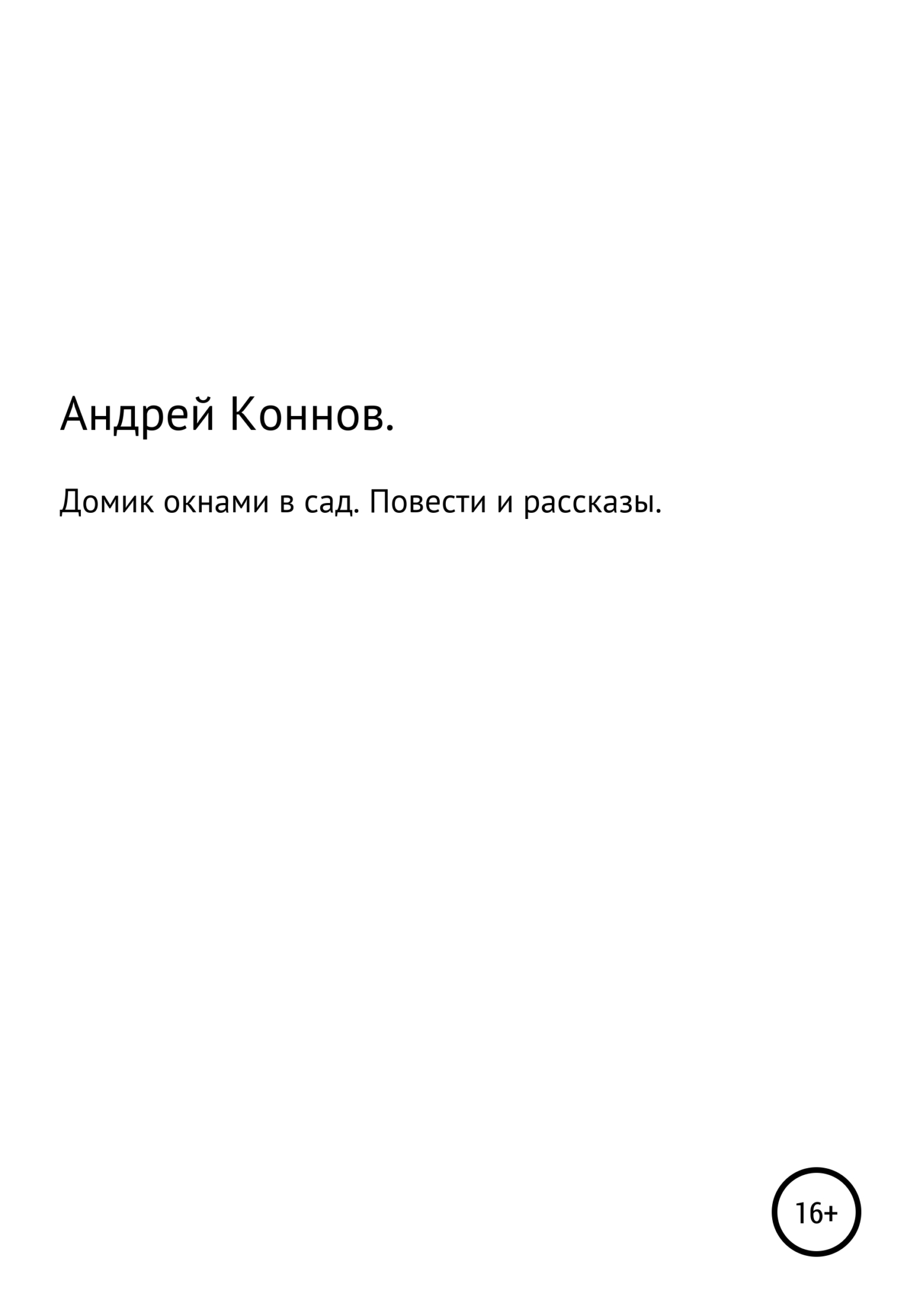голоса. Потому не видеть и не слышать, что она, старая, оказалась права, во всем права. Митька совсем не знала своего матросика. А матросик-то, вон он какой…
И только к обеду все наладилось: Митька стиснула зубы и сразу почувствовала себя сильной. После работы она не пошла домой, а отправилась в парк, села на берегу и стала смотреть, как купаются люди, как довольны они морем и как им весело. А у нее все кончилось. Больше она никогда не рассмеется. Никогда с криком восторга не бросится в воду и не станет брызгаться, как вон те взрослые бесстыдные девчонки. Море тянуло ее. Взгляд тонул в его бескрайней дали и обратно возвращался с тоской и печалью, чем полна была туманная даль. Митька запретила себе думать о нем, но, выйдя из парка, помимо своей воли повернула в порт. Что ей там было надо? Да ничего! Она равнодушно глядела на каменные ступени, сбегающие к морю. У парапета толпился народ. Все глядели в море. Она тоже стала глядеть в море и не сразу поняла, почему такое оживленное движение судов на внешнем рейде и что это за красный дрожащий свет лежит на воде.
Пожар… Еще до того, как она услышала слова: «Авария на теплоходе», — она поняла, откуда красный дрожащий свет на воде и почему такое оживленное движение в ночном море.
— «Абхазия»? — спросила она и не узнала свой голос.
— Да, да, «Абхазия», — ответили ей.
«Это — Мишкин теплоход», — подумала она как о чем-то постороннем. Но тотчас же почувствовала, как ей стало холодно и страшно, и она побежала к порту, не разбирая дороги.
Когда к берегу причалил катер и закричали клаксоны санитарных машин, она побежала вниз по лестнице к пристани. Но не успела: машины уже рванулись, и красные огоньки их стоп-сигналов скоро скрылись в тоннелях темных улиц.
…Это было его и не его лицо. Все в нем было знакомое, милое: и голубые глаза, и крепкий рот, и красивый круглый с ямочкой подбородок, и тонкий нос с подвижными ноздрями. Но не было бровей, брови у него разлетные, веселые брови.
Потом она увидела его руки. Вернее, две громадные марлевые куклы, которые лежали рядом с ним на одеяле.
— Руки… Твои руки, которые… Как же теперь, Миша?
Он поморщился от боли.
— Все будет нормально, — проговорил он. — Все! Молодец, пришла. А я и моря не видел сегодня, все ты перед глазами. Как вспомню ту проклятую жвачку, которую увидел в мусорной корзине, когда уходил, убил бы себя…
— Что ты, что ты! — остановила она его. — Ты тушил пожар? А пожарники?
Он стал объяснять, что увидел пламя первый. Что-то загорелось в камбузе. А там люди. На голову намотал мокрый китель. Вытащил… Всех вытащили. Китель загорелся, и видишь — брови. — И, глядя на нее виновато и преданно, договорил: — Огонь задохнулся. А теплоход завтра выйдет по расписанию. Только я вот. Несуразность какая!
На его безбровом лице отразилось такое по-ребячьи искреннее огорчение, что все сегодняшние свои переживания показались Митьке пустяком в сравнении с тем, что она узнала сейчас о своем матросе.
Она за этот день стала намного мудрее и, как истая морячка, сказала:
— Пойдешь следующим рейсом. — И вдруг спросила: — А пальцы у тебя шевелятся?
— Еще как! — Он хотел обрадовать ее, но у него получилось хлипко, по-мальчишески. В пальцах, в руках до локтей была невыносимая непрерывная боль, будто с них лоскутьями сдирали обожженную кожу. Но он промолчал об этом, а попросил:
— Нагнись ко мне.
Она нагнулась. Он, превозмогая боль, обнял ее, дотянулся сухими губами до ее щеки.
— А вот руки… Не обниму…
— Я сама, — сказала она и чуть-чуть коснулась лицом той и другой его руки, вернее марли, сильно пахнущей лекарством.