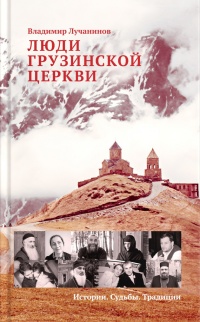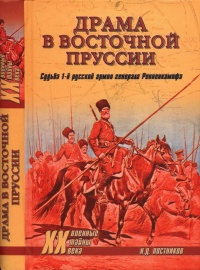одну сторону лица капитана время от времени сводило судорогой, — казалось, всей щекой подмигивает собеседнику.
— Да, слышал, — сдержанно отозвался Турчанинов.
— Такие Морганы поставляют нам оружие, — едко сказал капитан и выпил. — Вот и выходит, что на фронте мы получаем карабины, которые разрываются при первом выстреле, сапоги и шинели, которые после первого же дождя расползаются по всем швам... Вам случалось бывать в Вашингтоне, сэр?
— Давно там не был.
— Я побывал недавно. По делам службы. Да, сэр, полюбовался я, как живет тыл в то время, когда мы льем кровь, свою и чужую. Всего насмотрелся! — Щека у офицера дергалась. — Разряженные в пух и прах леди подметают тротуары шлейфами из самого дорогого шелка и порхают, как бабочки, из одного магазина в другой. Их мужья застегивают жилеты бриллиантовыми пуговицами. Говорят, ювелиры очень заняты подбором и оправой драгоценных камней... Вечерами рестораны полны, вино льется рекой. Джентльмены закуривают сигары стодолларовыми ассигнациями.
Турчанинов невесело усмехнулся.
— Очевидно, капитан, во время войны действует закон: герои страдают и умирают для того, чтобы негодяи богатели и наслаждались жизнью... Между прочим, вы не знаете, как лучше проехать в штаб дивизии?..
У дверей салуна его дожидался Майкл. Не слезая в коня, держал поводья оседланной турчаниновской лошади.
— Ждешь, великий трезвенник? — сказал, выходя на улицу, Иван Васильевич. — Зашел бы, смочил горло после дороги.
— Нет, сэр, благодарю вас, — непоколебимо ответил Майкл.
Турчанинов поскакал по немощеным, провинциальным улицам Афин, взбивая пыль и держась указанного капитаном направления. Что-то не было охоты спешить на свидание с начальством. Нисколько не спешил Иван Васильевич и, вероятно неосознанно для себя, старался как можно дальше оттянуть минуту такой встречи, под всякими предлогами.
У подъезда указанного ему двухэтажного дома, где, прислонясь спиной к стене, с карабином у ноги, скучал часовой, Турчанинов спешился и оставил свою лошадь на попеченье верного Майкла. Прежде чем добраться до кабинета генерала Митчелла, пришлось пройти одну за другой две комнаты, где за столами трудился над бумагами штабной люд, а затхлый, прокуренный воздух был пропитан чернильным духом. Незнакомый Турчанинову белокурый кудрявый адъютант, которому он представился, обдал его с головы до ног странно внимательным взглядом холодных, навыкате, глаз, затем скрылся, пощелкивая шпорами, за дверью кабинета и, вернувшись, попросил немного подождать: генерал занят, Подождать так подождать... Иван Васильевич скромненько уселся в углу, никому не мешая, и принялся наблюдать, как снуют мимо него штабисты, то входя к Митчеллу, то выходя от него. Около часу пришлось томиться, пока адъютант, оглядев его с тем же осуждающим вниманием, пригласил Турчанинова к генералу.
В кабинете были только сам Митчелл да какой-то стоящий в стороне курносый и безмолвный лейтенант, на которого Иван Васильевич, войдя, не обратил никакого внимания. Митчелл, пропуская сквозь кулак пегую свою бородку и сутулясь больше обычного, ходил из угла в угол.
— Я рассмотрел доклад комиссии, — негромко сказал он, не подав руки и в ответ на приветствие Турчанинова лишь слегка кивнув головой. — Никаких порочащих вас действий комиссия не нашла.
Не нашла? Слава богу!.. Иван Васильевич перевел дух. Только сейчас понял, какая все эти дни лежала на душе у него свинцовая тяжесть, и как вдруг стало ему легко.
— Она и не могла найти, — ответил он генералу.
Митчелл стоял у окна, спиной, с заложенными назад руками, и не оглядывался. Почему он не оглядывался?.. Почему не смотрит в глаза?
— Да, не нашла. Я так и доложил командующему армией. Но тем не менее...
Тем не менее? Что могло означать это «тем не менее»?
— Тем не менее, — продолжал Митчелл, по-прежнему не оглядываясь, нервно шевеля пальцами заложенных за спину рук, — генерал Бюэлл приказал... — Он выдавливал из себя слова. — Я получил письменное распоряжение... Приказал арестовать вас, полковник Турчин...
— Аре-сто-вать? — переспросил Турчанинов придушенным голосом — показалось, будто ослышался. Вдруг перехватило дыхание, заколыхался перед глазами серобагровый туман, в нем пропала сутулая, угрюмая, стыдящаяся спина, а на ее место выплыла толстая, прянично-розовая, скалящаяся, благодушно-самодовольная харя. «Хо-хо-хо!» — донесся откуда-то жирный хохоток.
— Да, арестовать и предать военно-полевому суду! — угрюмо прозвучало из сомкнувшейся вокруг душной мглы.
— За что? — крикнул, — нет, не крикнул, это только представилось ему, будто крикнул во весь голос, — шепотом спросил Турчанинов.
— За те служебные преступления, в которых вы обвиняетесь, — проговорил Митчелл сурово, как бы стараясь ожесточить себя. — Мне очень неприятно, полковник, но вы военный человек и сами должны понимать...
Безмолвный лейтенант отделился от стены, у которой стоял, внимая разговору генерала с вызванным полковником, и, подойдя к побледневшему Турчанинову, произнес казенным голосом:
— Вашу саблю, сэр.
СУД ДА ДЕЛО
Ну что ж, Иван Васильевич, вот нежданно-негаданно и сделался ты арестантом, и посадили тебя под замок. Было времечко, дышал ты солеными океанскими ветрами, слушал пушечный гром, скакал среди посвистывающих на все лады пуль на горячем боевом коне, а нынче всего жизненного пространства у тебя — четыре шага в длину да три в ширину. Тяжелая, наглухо закрытая дверь, под самым потолком — оконце, забранное толстыми железными прутьями, порыжелыми от ржавчины. Нехитро сколоченный столик, на котором тяжелая глиняная миска с остатками жидкой похлебки, деревянная ложка и щербатая глиняная кружка; ничем не застланный, скрипучий топчан, где приходится спать на голых досках, прикрывшись шинелью и ворочаясь всю ночь с одного ноющего бока на другой; деревянная кадка с ручками у двери, смердящая нашатырным, щиплющим глаза, запахом аммиака. Вот и вся мебель.
Новый фортель выкинула стерва судьба, тешась тобой, Иван Васильевич, как тешится кошка сцапанной, наполовину уже замученной мышью. Такой фортель, о котором не думал и не гадал. Права, ох как права народная мудрость! От сумы и тюрьмы не зарекайся...
Пришел в себя человек, слегка очухался от неожиданного удара — и главным, всепоглощающим занятием у него становятся отныне думы. Сидит он, все еще ошеломленный, на жестком тюремном ложе с поникшей головой либо часами до одури кружится на пятачке, шагая от одной облупленной стены, где из-под штукатурки краснеет кирпичная кладка, до другой стены, такой же облезлой, — и думает, думает, думает... Что только не приходит на