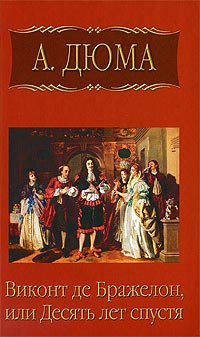Выйдя из карет после прогулки, мы отправились на репетицию великолепного балета, в котором танцевали все. Как только мы там оказались, Мадам взяла меня за руку и принялась безудержно резвиться, привлекая таким образом внимание человека, которого ей хотелось видеть возле себя. Я не стала напоминать Гишу о вчерашнем спектакле, участники которого сидели в засаде; я надеялась, что он возьмет себя в руки, поскольку мое положение в центре событий было весьма опасным. В то время как репетировали первую сцену, в которой мы не были заняты, принцесса оставалась между мной и Гишем. Она подшучивала над братом как женщина, которая уверена в своей власти и независимость которой начинает сдавать свои позиции. Видя, что Мадам держится так просто, без всякой манерности, граф решил, что он вправе перейти в наступление; воспользовавшись мгновением, когда я искала глазами Пюигийема, он весьма непринужденно спросил ее:
— Мадам не сочла бы меня слишком дерзким, если бы я обратился к ней с вопросом?
— Это зависит от ответа, который должен последовать.
— Увы! Мадам вправе отвечать или нет. Меня всегда удивляло одно обстоятельство: когда у людей справляются об их здоровье, никто на это не жалуется; когда при дворе осведомляются о величине вашего состояния, это вам льстит; если вас спрашивают: «Хорошее ли у вас настроение?», это воспринимается как знак внимания, — и в то же время нам возбраняется интересоваться сердечными делами своих друзей, чувствами посторонних и даже прекрасных дам — обожаемых всеми кумиров! Поистине, не странно ли это, сударыня?
Я слушала этот разговор, не показывая вида, и узнавала по этим напыщенным и мудреным фразам манеру своего любезного братца; я мысленно посмеивалась над этим и готова была поспорить, что Мадам находит подобные речи бесподобными. В самом деле, она отвечала ему с умильным видом:
— Разве кто-нибудь думает о чужих чувствах, сударь? Какое мне дело до вашего сердца? Какое вам дело до моего?
— Ах, сударыня! — Гиш невыразимо тяжело вздохнул, словно лишившись возможности дышать.
— И что же?
— Мадам…
— Вот и все, после этого прекрасного вступления вы теряете передо мной дар речи, как школьник в присутствии своего учителя.
— Дело в том, что я не смею больше ничего прибавить, раз вы запрещаете говорить о вашем сердце. — Людям моего положения бесполезно иметь сердце.
— Как, сударыня, у вас его нет?
— Я вовсе не это хочу сказать, я говорю, что мне не следовало бы его иметь.
— В таком случае… как оно себя чувствует? Мадам засмеялась, чтобы скрыть свое смущение:
— Вы ужасный насмешник, господин де Гиш, вы шутите столь же удачно, как и ваша сестра, которая смеется над всем.
— Это отнюдь не ответ.
— Я уже не помню, о чем вы спрашивали.
— О состоянии вашего сердца, сударыня.
— Оно превосходно.
— Как! Никто никогда его не задевал?
— Никто.
— Как! Величайший король в мире…
— Берегитесь, сударь, вы рискуете стать бесцеремонным.
— Ах, сударыня, ваше королевское высочество убивает человека наповал. Принцесса посмотрела на Гиша с обворожительной улыбкой и протянула в его сторону веер, словно жезл.
— Уходите, граф, я прощаю вас и возвращаю вам ваш меч.
— Ах, сударыня! — вскричал он. — Ах, сударыня, я вас покидаю, я удаляюсь, ибо подвергаюсь слишком большой опасности.
Брат и в самом деле собрался уйти, но я сделала ему знак вернуться. Принцесса была очарована и хотела продолжить беседу; я не оставляла их одних, опасаясь, как бы дело не зашло слишком далеко. На нас смотрели со всех сторон; в глазах государя читался гнев; маленькая глупышка де Лавальер готова была расплакаться в уголке, вероятно из-за того, что король больше не обращал на нее внимания.
Месье, по своему обыкновению разносивший сплетни, подошел к нам с безудержным смехом, собираясь во что бы то ни стало рассказать нам очередную небылицу.
— Сударь, — теребила его Мадам, — мы выслушаем вашу историю, если она пристойна, в противном случае я не желаю ничего слышать. Гадкие истории не в моем вкусе.
— Речь идет о фрейлинах, снова о фрейлинах, не о ваших, а о фрейлинах королевы, и я отнюдь на это не жалуюсь: матушка перестанет мне твердить, что они развращаются только у вас.
— Которая же из святых королевы навлекла на себя гнев?
— Мадемуазель де Шемро; она вовсе не святая, и госпожа де Навай знает это не понаслышке. Вчера, приблизительно в час ночи, девица прогуливалась по коридорам, пробиваясь сквозь толпу кавалеров, которые, как всем известно, в это время спешат на свидание к дамам, пряча лица в складках плащей. — Подобно некоторым дворянам, спешащим к некоей герцогине, не так ли?
— Речь идет не об этих некоторых, а о многих других. Бюсси… по крайней мере, вы же не станете со мной спорить из-за этого человека? Так вот, Бюсси крался вдоль стен, пробираясь в святую святых, где почивает маркиза де Ла Бом или, быть может, госпожа де Монгла или, быть может…
— Быть может, кто-то еще или, возможно, никто. На Бюсси чересчур много наговаривают.
— Ах, сударыня, — возразил мой брат, — можно ли назвать это наговором? Бюсси пришел бы в отчаяние, если бы он знал, как вы его защищаете!
— Сударь, побыстрее заканчивайте свой рассказ, вас сейчас позовут, скоро ваш выход.
— Хорошо! Когда святой Бюсси, раз уж вы всех причисляете к лику святых, свернул в самый темный из всех коридоров, он увидел, что святая Шемро направляется в его сторону с маленьким фонарем, наполовину скрытым под полой ее накидки, и они едва не столкнулись лбами. Шемро — умная и весьма находчивая девица; надеясь, что ее не узнали, она быстро задула свечу. Бюсси же полностью преградил барышне путь и поклонился ей до земли, назвав ее по имени. «Сударь, — отвечала Шемро, сильно смутившись, — я шла… я искала…»
«Я понимаю, мадемуазель, — отозвался Бюсси с глубочайшим почтением, — но, ей-Богу, я бы не хотел потерять то, что вы ищете».
— Фу, сударь! — воскликнула Мадам. — Разве можно повторять такие глупости!
Тем не менее она разразилась смехом, привлекая к нам внимание. Все поняли, что принцесса старается раззадорить короля, либо показать ему, что ей нет никакого дела до того, смотрит ли он на нее, доволен ли он или раздосадован. Его величество продолжал танцевать паспье с мадемуазель де Севинье, впоследствии моей доброй подругой г-жой де Гриньян, изображавшей нимфу или наяду (я уже не помню точно); в ту пору она определенно была самой прелестной из юных барышень и впервые показывалась в свете, как и другие девицы ее возраста, но о ней уже много говорили.
Подобная сцена с участием короля, Мадам, моего брата и Месье повторялась почти ежедневно; однако граф каждый день все успешнее продвигался вперед вследствие равнодушия короля, безрассудства Мадам и, следует это признать, глупости Месье, у которого я покорно прошу прощения за свою откровенность. Я старалась как можно реже во все это вмешиваться ради Пюигийема, опасавшегося, что я запятнаю свою репутацию, а также во имя г-на Монако, которому я угождала в этом, чтобы поступать по-своему в другом. Между тем меня впутывали в эти дела вопреки моей воле: я выслушивала признания, жалобы и восторги каждого, понимая, что дело движется к развязке.