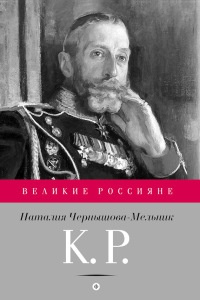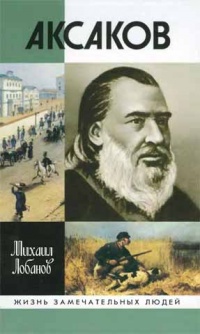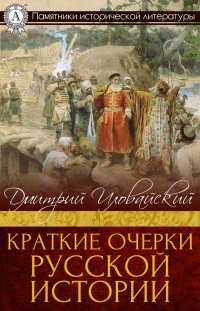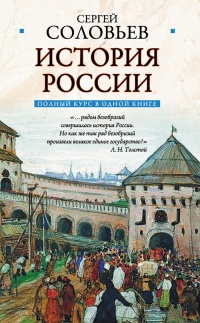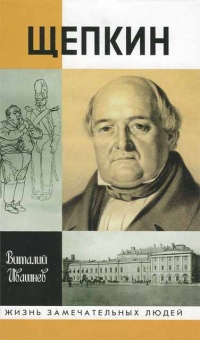Война изменила очень многое. Париж стал прифронтовым городом, и, поскольку мужчины призывного возраста служили в армии, былого веселья здесь не чувствовалось. В значительной степени другим стал за прошедшие годы и Русский балет. Некоторые мастера старшего поколения, например Адольф Больм, более не входили в труппу, а молодые танцовщики, исполнявшие ведущие партии, были практически неизвестны парижской публике. Изменился и сам Дягилев, прежде всего другими стали — под влиянием новых друзей — его художественные идеи: теперь он следовал последним достижениям в искусстве.
Это выразилось в первой же постановке, которая состоялась 11 мая на сцене театра «Шатле». За пару дней до показа «Жар-птицы» Маэстро объявил участникам спектакля, что в финальную картину балета будет внесено изменение, отвечающее духу времени: теперь Царевичу вместо короны и скипетра будут вручать фригийский колпак и красный стяг. Конечно, это была дань Февральской революции в России. Хотя Дягилев и провозглашал себя монархистом, со временем он несколько изменил взгляды и приветствовал новую власть. Видимо, не последнюю роль тут сыграло сделанное ему членами Временного правительства предложение стать министром искусств. Он хотя и отказался — предпочел остаться руководителем независимой антрепризы, — но всячески стремился подчеркнуть свою лояльность. И вот — красный стяг на сцене, якобы символизирующий «победу сил света над силами тьмы, воплощаемыми Кощеем».
Сотрудники, узнав о замысле «диктатора», пытались его отговорить. Но куда там! Импресарио был, как всегда, упрям и не желал никого слушать. Отрезвление наступило лишь после того, как он убедился сам: зрители крайне холодно приняли его новшество. А на следующий день он получил письмо от журналиста и издателя Леона Бельби: «Позвольте мне привлечь Ваше внимание ко вчерашнему маленькому инциденту по поводу изменения, произошедшего в постановке „Жар-птицы“, и появления красного знамени, символизирующего русскую революцию… предупреждаю Вас, что на значительную часть французского общества, представленного некоторыми из своих руководящих элементов на вчерашнем спектакле, произвело очень плохое впечатление это выступление, которое они считают по меньшей мере ненужным, не имеющим никакого касательства к балету и кажущимся только провокацией по отношению к их самым почтенным чувствам… Позвольте Вам сказать совершенно откровенно, что я не думаю, чтобы комментарии газет, которые за этим последуют, были бы для Вас благожелательными…» Пришли и другие письма подобного рода. Дягилев понял, что нужно быстро восстановить сцену в первоначальном виде, что и было сделано. Но стоило парижанам увидеть балеты «Женщины в хорошем настроении» и «Русские сказки», как этот инцидент тут же был забыт…
Наступила очередь «самого смелого» из новых спектаклей Русского балета — «Парада». Премьера его состоялась в театре «Шатле» 18 мая. Стараясь подготовить парижскую публику к пониманию этой модернистской постановки, Гийом Аполлинер поместил в программе дягилевского балета статью «„Парад“ и новый дух», в которой писал:
«Это сценическая поэма, которую новатор музыкант Эрик Сати переложил в изумительно экспрессивную музыку, такую отчетливую и простую, что в ней нельзя не узнать чудесно прозрачного духа самой Франции.
Художник-кубист Пикассо и самый смелый из хореографов, Леонид Мясин, выявили его, в первый раз осуществив этот союз живописи и танца, пластики и мимики, который является очевидным признаком наступления более полного искусства…
Из этого нового союза, так как до сих пор декорации и костюмы, с одной стороны, и хореография, с другой стороны, имели между собой только кажущуюся связь, в „Параде“ вытекло подобие сюрреализма, в чем я вижу отправную точку проявлений этого нового духа, который, найдя сегодня случай выразить себя, не преминет соблазнить избранных и обещает в корне изменить искусства и нравы во всемирное веселье, ибо здравый смысл требует, чтобы они были, по крайней мере, на высоте научного и промышленного прогресса…»
«Парад» изображал жизнь бродячего цирка, состоявшего из акробатов, китайского фокусника, маленькой американки и коня. Когда поднялся занавес, собственноручно расписанный Пикассо (кстати, именно для этого спектакля Дягилев впервые заказал специальный сценический занавес, а в дальнейшем будет это делать для большинства новых балетов), зрители увидели перспективу нью-йоркских небоскребов, изображенных в стиле кубизма. Герои представления с упоением исполняли эксцентричные танцы, а один из них, фокусник (Л. Мясин), глотал огонь. Еще два человека, облаченные в высокие и неудобные кубистские конструкции, находились возле кассы балагана и всячески расхваливали представление.
…Готовя постановку «Парада», Дягилев познакомился с самой щедрой своей меценаткой, ближайшей подругой Мизии Серт. Маленькую тоненькую женщину огромного обаяния и силы воли звали Габриель Бонер Шанель. Через несколько лет она совершит переворот в мировой моде и станет человеком-легендой. А пока Коко, как зовут ее друзья, находит сине-лиловую ткань для декораций, на которой Пикассо изобразил сангиной колонны. В. Федоровский пишет в книге «Сергей Дягилев, или Закулисная история русского балета»: «…она поручила Кокто купить карнавальные маски, сама выкрасила их белой краской и укрепила вокруг сделанной в декорации ниши. Она же заставила актеров сделать белый грим, напоминающий античные маски, — „фокус“, который будет потом повторяться множество раз. Недовольная костюмами, Шанель в последнюю минуту все их отменила и мгновенно сделала новые из тяжелых тканей из своей коллекции». Особенно прославился костюм Фокусника. В дальнейшем он стал эмблемой Русского балета, и его изображали на всех программах и афишах дягилевской антрепризы.
«Парад» стал этапом в истории Русского балета. Теперь границы, отделявшие классический балет от ярмарочного балагана, были окончательно уничтожены. И это закономерно: новое время выдвинуло новые требования. Отныне Дягилев, а вместе с ним и вся труппа, следует исключительно модернистским тенденциям, которые уже утвердились в Европе. И Маэстро теперь не столько пропагандирует русский балет за границей, сколько стремится быть в авангарде художественной жизни Запада.
И всё же он не спешит полностью забыть старое. Практически в полной неприкосновенности остаются в репертуаре спектакли прежних лет. Он только не хочет их повторений: «„Клеопатра“, „Шехеразада“, „Петрушка“ нужны, но не нужны их повторения, не нужны „Клеопатра“ № 2, „Шехеразада“ № 2, „Петрушка“ № 2…»
Парижский сезон восстановил репутацию Русского балета, несколько померкшую в годы войны. Но всё же, несмотря на очевидный художественный успех, былых триумфов не последовало. Больше всего зрителям понравился балет «Женщины в хорошем настроении», о котором даже противник дягилевской антрепризы критик А. Левинсон писал: «Вдохновение этого комического балета так по-настоящему удачно, исполнение такое однородное и свободное, всё целое так удалось, что я без всяких оговорок отдался сладости жизни этого прекрасного забвения. Если бы даже пытаться сопротивляться ему, с первых же тактов партитуры Скарлатти захватывают оживленные и иронические ритмы, которые увлекают вас в свой веселый хоровод. Эта музыка, вся от солнца, наполняет вас. Она пенится, шипит, опьяняет: это настоящее вино…»