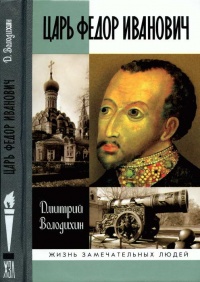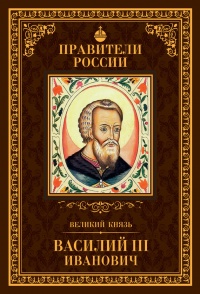Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,Как же нелюдимо ты, отшельник хилый,Здесь сидишь на лоне вод уединенных!..[244]
Существенная деталь: гибельной «древнюю подкапризовую дорогу» делают для Ахматовой невероятно сильные, экстатические эмоции, «счастье и веселье», возникшие внезапно и как бы извне, подобно «ветру, летящему с небесных круч». Этот традиционный образ внешнего наития, одержимости или вдохновения знает Библия (вспомним, хотя бы истомленного и мятежного страдальца, которому разгневанный Господь «отвечал из бури» (Иов. 38. 1)), знает Данте, описывая волшебный ураган в адской пропасти сладострастия (Ад, песнь V) знают бесчисленные народные маги, о чём ярко писал досконально знакомый с предметом Александр Блок:
В этом ветре, который крутится на дорогах, завивая снежные столбы, водится нечистая сила. Человек, застигнутый вихрем в дороге, садится, крестясь, на землю. В вихревых столбах ведьмы и черти устраивают поганые пляски и свадьбы; их можно разогнать, если бросить нож в середину вихря: он втыкается в землю, – и поднявший его увидит, что нож окровавлен. Такой нож, «окровавленный вихрем», необходим для чар и заклятий любви, его широким лезвием осторожно вырезают следы, оставленные молодицей на снегу. Так, обходя круг сказаний о вихре, мы возвращаемся к исходной точке и видим, что в зачарованном кольце жизни народной души, которая до сих пор осталась первобытной, необычайно близко стоят мор, смерть, любовь – тёмные, дьявольские силы («Поэзия заговоров и заклинаний»).
Действие подобного «ветра с небес» и обуяло Ахматову в миг, когда она в «чёрный масленичный вечер» 1905 года скользила в разукрашенной «вейке» под Большим и Малым капризами бок-о-бок с элегантным и равнодушно-холодным двадцатишестилетним универсантом, устремлявшим на соседку спокойный взор близоруких светлых глаз. Как и Блок, Ахматова видела в этом внезапном вихре нашествие «тёмных, дьявольских сил», искалечивших всю дальнейшую жизнь:
Закинув голову на подушку и прижав ко лбу ладони, – с мукой в голосе:
«И путешествия, и литература, и война, и подъём, и слава – всё, всё, всё – только не любовь… Как проклятье! Как… И потом эта, одна-единственная – как огнём сожгла всё, и опять ничего, ничего…»[245]
Античные язычники недаром видели источником зарождения и развития эротической страсти (έρως), в отличие от естественных проявлений духовной или сексуальной любовной привязанности (ἀγάπη, στοργή), не человеческое чувство, а вид самостоятельно существующей безличной космической силы, вроде прародительной Φιλία Эмпедокла, «соединяющей разнородные формы в единый порядок»[246]. Поэтому возникновение такой любви считалось столкновением с роком, жизненной катастрофой, σκάνδαλον[247]. А христиане, не мудрствуя, прямо говорили о стрáстной любви как о бесовском прельщении (прелести), соблазне сотворения кумира и подмены истины «Бог есть любовь» (1 Ин. 4. 8) извращенной ересью «Любовь есть бог». Позднее, прагматики-рационалисты объявили стрáстную эротическую одержимость особым видом нервного расстройства, близким к истерии, а мечтатели-романтики, напротив, подняли на щит, почитая болезненную обострённость чувств исключительным признаком одарённой творческой натуры. Но все сходились, что опыт стрáстного эроса является, в общем, трагическим и ущербным, родственным алкогольному или наркотическому угару.