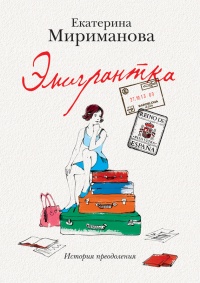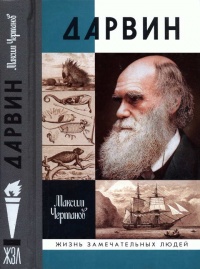Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 116
С виду это был приземистый, широкоплечий мужчина, лет 40, с умным, красивым лицом, высоким лбом, римским носом, небольшими, из глубины смотревшими умными глазами, но очень тонким и слабым, не соответствующим широко сложенной груди голосом. Privatissimum Диффенбаха, стоившее дорого (4 больших фридрихсдора с каждого из 7–8 слушателей), было мне только тем полезно, что доставило мне случай видеть несколько замечательных (и тогда еще новых) пластических операций, а все другое, излагавшееся нам Диффенбахом на этом privatissimum, не стоило и выеденного яйца. Он показал несколько своих пластических операций на трупе, мямля по обыкновению и выпуская из горла нам, и то неохотно, одно слово за другим; в ораторы он не годился. Его надо было видеть как оператора-специалиста, но не слушать, что он говорит.
С Грефе, а потом и с Рустом Диффенбах был на ножах.
С Грефе потому, что это был человек совершенно другой масти, а с Рустом потому, что тот не давал ему хода в Charite; да к тому еще на консультации у барона фон Алътенштейна, болевшего карбункулом, Руст (сам) переменил, без всяких объяснений с другими врачами, способ лечения, сказав Диффенбаху, как бы в извинение своей неучтивости: «Sie sind doch meine Leute»[302], на что Диффенбах заметил: «Ich binkein Leibeigener»[303].
После ссоры Диффенбах при нас ругал иногда Charite на чем свет стоит.
– Das 1st eine Mordgrabe![304] – и он был прав.
Charite во все время нашего пребывания было резервуаром госпитальной нечисти (госпитального антонова огня) и гнойного заражения.
Да и долго спустя после того, в 1864 году, при посещении клиники профессора Юнгкена в Charite, госпитальная нечисть не исчезла; Jungken для предохранения от нее прижигал еще свежие раны после операций раскаленным железом. При мне после извлечения большого секвестра[305] из бедренной кости он прижег все дупло, из предосторожности, раскаленным железом.
И самому Русту немало тогда доставалось от Диффенбаха. Он не женировался[306] насмехаться над Рустом во всеуслышание, где только мог.
Наружность Руста действительно не многих располагала в его пользу. Это был старый подагрик, приземистый, низенький ростом, с седыми длинными и густыми волосами, резко отделявшимися на красном, как пион, фоне широкого, грубого лица; глаза только не потеряли своего блеска и умно и бойко смотрели из-под седых нависших бровей и сверху надвинутых на них больших серебряных очков; голову прикрывал зеленый суконный картуз, в котором Руст сидел и в клинической аудитории. На ногах – нередко плисовые сапоги, под ногами – всегда коврик.
Не мудрено, что такая оригинальная наружность подвергалась едким сарказмам неприятелей. Диффенбах на одном многолюдном вечере, где много говорилось о старине, на рассказ одного профессора о том, что еще не очень давно старый Мурзинна называл Руста «Gelbschnabel»[307], Диффенбах заметил, что гораздо приличнее было бы для Руста название «Blauschnabel»[308].
Не один Диффенбах, впрочем, выбирал Руста предметом насмешек. Сам наследный принц, любивший Руста и пожаловавший его в свои лейб-медики, издал на него презабавную карикатуру, долго выставлявшуюся в окнах магазинов Под Липами.
Руст был защитником карантинной системы во время холеры и возбудил этим против себя все народонаселение. Вот по этому-то случаю и явилась карикатура, изображающая большого воробья с физиономиею Руста, запертого в клетку с надписью: «Passer rasticus. Der gemeine Landsperling»[309].
Вся острота – в словах rasticus и Sperling.
Landsperre – это карантинная система.
Диффенбах во время нашего пребывания в Берлине ездил в Париж и там дебютировал в клинике Лисфранка, перед парижскою аудиториею, со своею блефаропластикою (искусственное образование нижнего века). Возвратясь, видимо польщенный хорошим приемом у французов, он рассказывал нам, как любезен был с ним Лисфранк, Амюсса[310] и др., как вся аудитория рукоплескала ему за сделанную им еще не виданную нигде операцию.
Зато Диффенбаху очень не понравились Вельпо[311] и англичане.
– Вельпо, – сказывал нам Диффенбах, – это какой-то anatomicus chirurgicus, – по мнению Диффенбаха, это была самая плохая рекомендация для хирурга, – а англичане – это настоящие бифштексы.
– Вообразите, – говорил Диффенбах, – старый Астлей Купер, проезжавший чрез Париж, полагал, что я французский доктор из госпиталя St. Louis; так он и отнесся ко мне, никогда прежде ничего не слыхав обо мне.
Вельпо не остался, впрочем, в долгу у Диффенбаха. Когда я посетил его в 1837 г., в бытность мою в Париже, Вельпо так отнесся о берлинском гении:
– Знакомы ли вы с значением нашего слова: gascon[312] и gasconade?
– Знаю.
– Ну, так m-r Diffenbach показался мне gascon’oм, а его разные подвиги – гасконадами. – В этом замечании Вельпо нельзя не признать значительную долю правды.
Профессор Юнгкен, окулист и клиницист Charite, принадлежал также к сторонникам Руста; таким он остался, если не ошибаюсь, до конца. Это был настоящий и чистокровный доктринер. Он представлял и своим ученикам, и, как я полагаю, самому себе современное учение, т. е. до чего дошел Руст и он сам, чем-то законченным, не подлежащим сомнению; прогресс мог быть только в том же самом направлении. Так, по крайней мере, выходило из его клинических лекций. Ни малейшего скептицизма не допускалось. Все было ясно и точно, как дважды два – четыре. Глазные бленнореи[313] должны были лечиться только одним противовоспалительным способом.
Разбирая однажды перед нами случай сильнейшей глазной бленнореи, Юнгкен, назначив свое обыкновенное лечение – пиявки и ледяные примочки, с необыкновенною самонадеянностью объявил нам: «Ich breche den Stab uber den Kopf desjenigen Arztes, der nicht im Stande ist eine solche Blennorrhoe zu kurieren!»[314] Через три дня оба глаза оказались пропавшими от изъязвления роговой оболочки, и Юнгкен, стоя возле постели несчастного слепца, молча пожимал только плечами. Но Юнгкен был честный и добросовестный врач, он не скрыл от нас этого несчастного случая, хотя и мог бы, как другие, легко это сделать.
Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 116