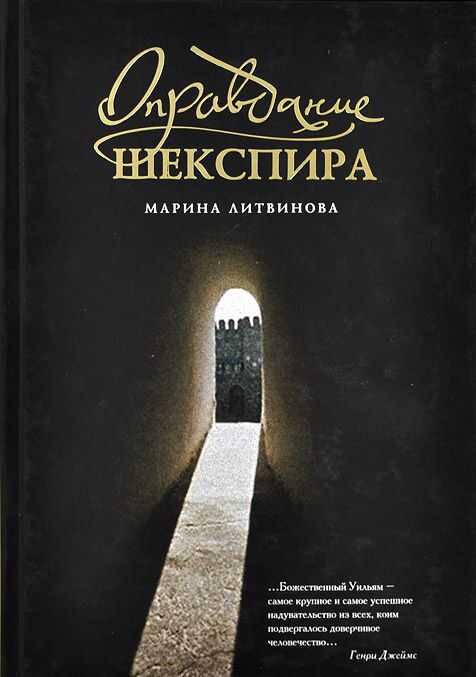ни был он: король ли Лир, печальный Мавр
иль юный Гамлет,
иль Иеронимо, мстительный старик,
иных героев череда… — все умерли в тот миг,
когда его не стало… Сколько раз —
клянусь! — я видел, как бросается в могилу
к возлюбленной так преданно, что верил:
от горя он сейчас же и умрёт!..
Манера игры Бербеджа, описанная панегиристом, в точности соответствует указаниям Гамлета для актеров: «…в смерче страсти вы должны усвоить и соблюдать меру, которая придавала бы ей мягкость <…> сообразуйте действие с речью, речь с действием» (III, 2):
И в каждой пьесе — через монолог,
присвоенные жесты персонажа,
походку, голос и манеры даже, —
давался истинной гармонии урок.
( перевод А. Бурыкина )
Шекспир также сочинил ответ Бербеджа на слова призрака «Помни обо мне». В нем вновь звучат слова надежды и упования, связанные с будущим театра: «Помнить о тебе? / Да, бедный дух, пока гнездится память / В несчастном этом шаре» (I, V).
Разрыв с традицией прошлого проявляется в творчестве Шекспира в неоднозначности оценки, которую он дает таким явлениям современности, как упадок рыцарской культуры, увядание католицизма, уничтожение Арденского леса. Осовременивая устаревшую трагедию мести, драматург находит и в ней подходящий момент, чтобы проститься с прошлым: во второй сцене второго акта Гамлет упоминает старомодный монолог из одной пьесы, который он «особенно любил». В нем рассказывается о том, как Пирр, сын Ахилла, мстит царю Приаму за смерть своего отца. Гамлет с волнением читает по памяти этот текст:
«Косматый Пирр — тот, чье оружье черно,
Как мысль его, и ночи той подобно,
Когда в зловещем он лежал коне, —
Свой мрачный облик ныне изукрасил
Еще страшней финифтью, ныне он —
Сплошная червлень; весь расцвечен кровью
Мужей и жен, сынов и дочерей,
Запекшейся от раскаленных улиц,
Что льют проклятый и жестокий свет
Цареубийству; жгуч огнем и злобой,
Обросший липким багрецом, с глазами,
Как два карбункула, Пирр ищет старца
Приама». ( II, 2 )
Уже в конце XVII века почитатели Шекспира совершенно не понимали смысла этих строк, считая их явным промахом, либо упущением драматурга (монолог якобы заимствован из старой пьесы, и Шекспир поленился его переписать). Джон Драйден вынес самый суровый вердикт: «Возникает ощущение, что грохот и пафос этого монолога напоминают дребежжание старой кареты». Другое высказывание, более позднее, принадлежит Александру Поупу (он также считал, что монолог не принадлежит перу Шекспира): Гамлет, «кажется, хвалит эту пьесу, чтобы показать ее напыщенность». Лишь в конце XVIII века Эдмонд Мэлоун предположил, что монолог Гамлета стилизован под старину. Перечитывая этот текст, осознаешь, какое значение когда-то имел для Шекспира жанр трагедии мести, в котором воплощены идеалы чести, к концу XVI века утраченные. Суть пьесы гораздо яснее, если знаешь: сквозь шекспировский палимпсест все еще проступают следы старой краски.
В последние годы правления Елизаветы англичане почти утратили веру в героические деяния; именно об этом идет речь в шекспировской пьесе. Осенью 1599-го, когда Шекспир писал «Гамлета», ощущение безысходности лишь укрепилось. Лондонцы, едва оправившиеся после довлевшей над ними угрозы испанского вторжения и провала ирландской кампании, снова остро почувствовали тревогу в середине ноября 1599-го, когда власти обрушились на одного из проповедников, открыто осмелившегося заявить с кафедры Собора святого Павла перед многотысячной аудиторией о «провале ирландской кампании». Многие почувствовали напряженность и во время рыцарского турнира в Уайтхолле — без Эссекса и его рыцарей прославление мужества и отваги показалось им еще более искусственным, чем бутафорские щиты для состязаний. Шекспир и другие столичные жители были потрясены тем, насколько жизнь теперь подчинена политике. Той осенью «при дворе, в столице и во всей стране» враги королевы распространяли «безбожную клевету» — в ответ на это Тайный совет решил опозорить Эссекса во время открытых слушаний Звездной палаты. Не веря слухам, Фрэнсис Вудворд, решил удостовериться во всем лично. Во время одного из слушаний Вудворда нещадно толкали со всех сторон (в письме он жаловался Роберту Сидни на «скопление народа и давку»); затем, разбушевавшаяся толпа отбросила его «так далеко, что [он] уже не слышал, о чем шла речь». Генри Уоттон, секретарь Эссекса в Ирландии, писал в Лондон своему другу Джону Донну: «верно, что Ирландия пострадала от злого умысла и попустительства», однако английский двор сейчас «в еще худшем положении». «Двор как таковой, — с горечью замечает он, — самое суетное место на земле». Вот и все, что Уоттон осмелился доверить бумаге. «Больше не скажу ни слова, возможно, я и так сказал слишком много». Осенью Шекспир, удрученный, как и многие другие, политическими событиями, возможно думал так же, как Роланд Уайт: «Настроения нашей эпохи еще дадут о себе знать». Именно об этом, упоминая героические деяния и культуру чести, Шекспир размышляет в «Генрихе V» и «Юлии Цезаре», пьесах, которые, само собой разумеется, не предполагались к исполнению при дворе на Рождество. Удивительно, что именно тогда Шекспир решил осовременить пьесу о пороках двора, проблемах престолонаследия, угрозе вторжения и опасности государственного переворота.
«Вот я один», — с облегчением произносит Гамлет в конце второго акта, избавившись от Розенкранца и Гильдернстерна, актеров и Полония. Это не совсем так — он остается не в одиночестве, а один на один со зрительным залом, и публика слышит, как герой «отводит словами душу» (II, 2). Он откровенен с залом как никто другой до него. Одна из загадок «Гамлета» в том, каким образом Шекспир научился писать столь убедительные монологи, которые еще полгода назад в «Юлии Цезаре» давались ему с трудом:
О, если б этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой!
Иль если бы Предвечный не уставил
Запрет самоубийству! Боже! Боже!
Каким докучным, тусклым и ненужным
Мне кажется все, что ни есть на свете!
О, мерзость! Это буйный сад, плодящий
Одно лишь семя; дикое и злое
В нем властвует. ( I, 2 )
Шекспир так мастерски воссоздает внутреннее состояние героя, как не удавалось до него ни одному драматургу, — мы понимаем, что Гамлет тщетно пытается собраться с мыслями. В других, более ранних произведениях Шекспира, нам встретится немало ярких монологов, но какое бы сильное впечатление они ни производили, им не хватает той глубины, того погружения в себя, какие присущи монологам Гамлета. Когда Шекспир работал над «Гамлетом»,