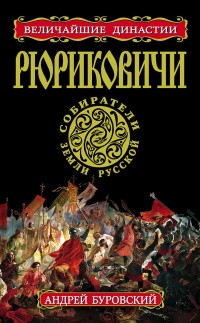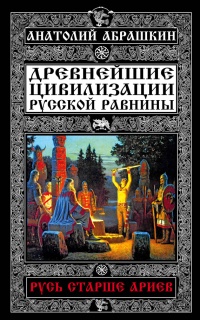— Ищите, — только и бросил угрюмо Тур.
Стали искать вокруг дома, прощупывать сугробы, которые намело и под крыльцом, и у служб, и под деревьями в саду, и возле поленниц; в палисаднике под розовыми кустами искали, искололись в кровь; и в загоне для овец смотрели, где не было ни одной овцы, и в амбаре, столь пустом, что и спрятаться там было негде.
И Тур со всеми искал... Он-то и нашёл свою Марийку. Сначала он сорочку её нашёл — белую сорочку, вышитую красным шёлком; сама девушка вышивала — с тщанием и любовью рукодельничала, вышивала на радость, вышивала на счастливое будущее, а получилось... Эта сорочка, красный узор её, яркий на белом снегу, — как бы указали Туру направление. И он огородом двинулся к лесу. И нашёл он Марийку в сотне-другой саженей от дома — уже не на огороде, но ещё и не в лесу. Тур увидел: девичье плечико выглядывает из сугроба. Ахнул, пал на колени рядом, снег руками разгрёб...
Она была холодна, тверда и бела как льдина. Ни кровинки в лице, ни искорки жизни в приоткрытых глазах. Она была ледышка ледышкой. Полураздетая, лежала калачиком. Казалось, по руке её, по плечу постучи, и зазвонит она чисто и нежно — серебряным колокольчиком зазвонит грустно и протяжно. И губы её, которые Тур так любил целовать, и её глаза, в которые он так любил смотреть, были теперь — лёд; и шея, и худенькие плечики её, какие Тур так любил ласкать, были лёд ныне; и руки её, какие его обнимали некогда тепло и страстно, какие мягко и ласково ложились ему на грудь, были лёд ледяной; и сердце её, горячее некогда сердце, то пугливое, то заботливое, то радостное, то замирающее, юное сердце, которое его так любило, в коем навеки поселился образ его, образ возлюбленного, образ суженого, единственного, было теперь тоже — лёд льдистый; мертво было, недвижно и твердокаменно в насквозь промерзшей груди Марийкино сердце; снег, холодный колючий снег искрился в волосах её — там, где должен был блестеть жемчуг. Возможно ли такое принять, возможно ли с таким смириться? Была Марийка девушка-красавица, стала — ледяной цветок...
Тур взял её на руки, лёгонькую льдинку, и пролились из глаз его слёзы; он поднял её повыше, как бы воздевая к Богу, и обратил взор свой к Небесам, низким и пасмурным в этот скорбный час:
— Господи! Не знаю промысла Твоего! Но десницей своей Ты разорвал мне грудь и вырвал сердце. Ты воткнул в меня руку свою, будто карающий меч. За что?.. За то ли, что я переступил через своё, человеческое, и дерзнул — покусился на Твоё, божественное?
Не было ему ответа с Небес.
И ещё пролились слёзы.
— Зачем так испытываешь меня? Разве Ты не знаешь меня?..
Никому своё сокровище не доверяя, сам отнёс Тур бедную Марийку на погост. К ночи выдолбили в промерзшей земле могилу. Так — калачиком — и положили Марийку в неё; на одну овчину положили, другой овчиной покрыли.
Целую ночь просидел у могилы скорбящий Тур — безмолвно и недвижно. Тяжёлая серо-свинцовая фигура в чёрной ночи. Ближе к утру усилился мороз, и небо прояснилось, высыпали звёзды. И бесконечный Млечный Путь будто бы лёг на крепкие турьи рога, и рога эти в неверном свете звёзд поблескивали матово.
Ни ночи, ни звёзд, ни прекрасного Млечного Пути, ни снегов вокруг, ни печальных крестов на погосте не видел в этот час Тур, ибо сидел он с закрытыми глазами. Кабы друг его Волчий Бог или другой друг — тот же Певень — заглянул сейчас ему в лицо, то не смог бы даже предположить, о чём мысли его, ибо каменное у него было, неживое лицо...
А видел Тур свою Марийку летним солнечным полднем, на цветочном лугу её видел, с золотою лентой, вплетённой в косу, с чашкой видел её, полной мёда, в нарядной рубашке из тончайшего полотна, в убранстве красных бус и венков пышных из колосков и листьев, гирлянд из васильков и ромашек; и алыми, как спелая земляника, были губы её, и мёд на них блестел — были сладкими они. Он мёд с них пил. А она обнимала его белыми ласковыми руками, гладкими, как шёлк. И в глазах её была любовь. И кукушечка в лесу — всё ку-ку да ку-ку — говорила про любовь и про верность куковала до скончания дней и про радость, про радость — до дней скончания...
Тихий вздох потревожил грудь... Звёзды сияли. Иней серебром на плечи лёг.
Твоё сердце — горячий алый цветок. Твои губы — кораллы благородные. Глаза твои прозрачные — бездонного неба лазурь. Твои волосы — для жемчуга шёлк. Твоё приданое — цветущий майский сад. Твоя фата — порхающие бабочки над лугом... Я подыскивал сватов, кои скажут в доме твоём: «Есть у вас цветочек, а у нас садочек...» Я выискивал взором подружек твоих, что в доме родительском споют величальную, а невесте косу расплетут. И гостей я присматривал богатых и важных, бедных и весёлых, — разных, — что сядут вкруг столов дружно, высоко кубки поднимут, расплещут щедро налитое вино. И игрецов я нашёл, чтоб на свадебке задорно сыграли, и певцов самых лучших услышал — чтобы свадебные спели песни. И имён тебе много подобрал, моя любовь...
Но что же вижу!.. Заковано в лёд твоё юное сердце. Губы твои теперь — бледный песок речной. Глаза твои сейчас — мутная вода. Волосы твои — иней мёртвый. Твоё приданое — опавшая листва и белый снег. Вместо фаты — саван смертный — дёрн тяжёлый да могильница-трава... Сваты сами нашлись: четверо их, говорят; и живут они в крысином гнезде. Девичник твой — ёлки заснеженные, бесчисленные в лесу, величальной не споют, и не расплетут они девичью косу. Гости — камни надгробные, холодные и мрачные, слова не скажут. Свадебная песня — заунывный волчий вой. А имя твоё теперь... Лунный Свет.
Так целую ночь сидел недвижим скорбящий Тур. Благочестивый муж; он много претерпел и спасётся... Думали, сам он замёрз. Но с рассветом — поздним и бледным зимним рассветом — поднялся Тур, стряхнул с плеч иней.
— Теперь... найдём их.
Христос воскрес и спас отчаявшегосяУзнав нечаянно, что Тур — это брат его Радим, Винцусь уже более не испытывал сомнений — конечно же, возьмёт его славный Тур к себе и среди своих людей, среди героев, его поставит и, может, однажды среди их имён и его имя назовёт. Подыскал наш Винцусь немало разумных слов, чтобы брата своего убедить, приготовил эти слова, не раз их мысленно проговорил... однако вдруг перестал появляться дома Радим. Все домашние забеспокоились. А потом рассказали им, что случилась в Рабовичах такая беда... Ещё сильнее забеспокоились домашние — сестра, родители, слуги. Не сотворил бы Радим с собой чего в этой беде. Все знали, как сильно он любил дочку священника. Где же он обретался теперь, где прятал от всех свои слёзы, свою боль?.. Люди говорили, что сам Тур схоронил убиенных отца Никодима и его жену и что Марийку, замерзшую насмерть, он в снегу отыскал... А куда Радим подевался, никто не знал. И только Винцусь, которому было известно, кто есть брат его, понимал лучше других домашних, что происходит. Однако никому тайны брата не открывал. Только успокаивал он родителей и сестру, говорил, будто чует его сердце, что Радим жив, но ему нужно время перетерпеть, пересилить эту тяжкую беду; успокаивал: придёт лучший час, и вернётся Радим.
Выждав день-другой, Винцусь решил не ждать Радима дома, а самому отправиться к нему. Благо, знал уже, где брата искать. Поднявшись пораньше, затемно ещё, и прихватив на кухне пару сухарей в дорогу, оседлал Винцусь верного Коника и направился к городищу. Никому не сказался, ибо дело тайное должно оставаться тайным, чтобы быть успешным.