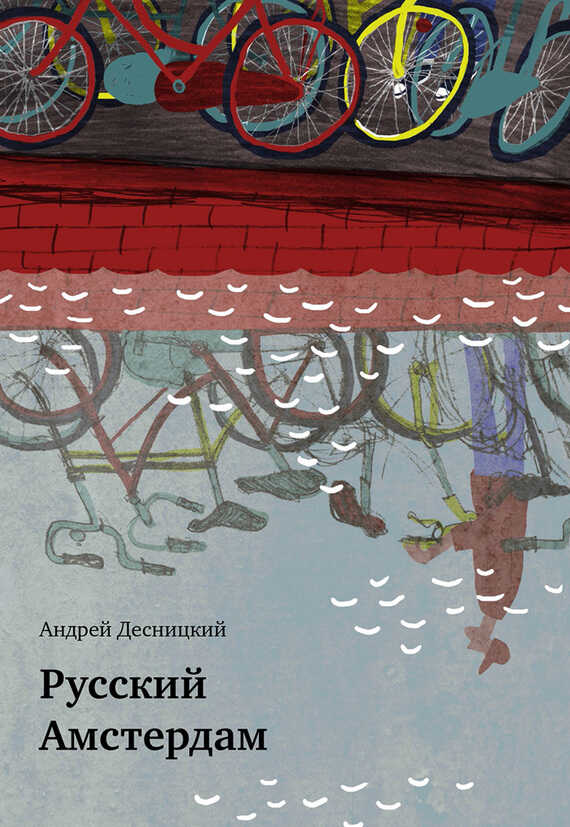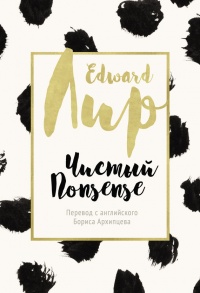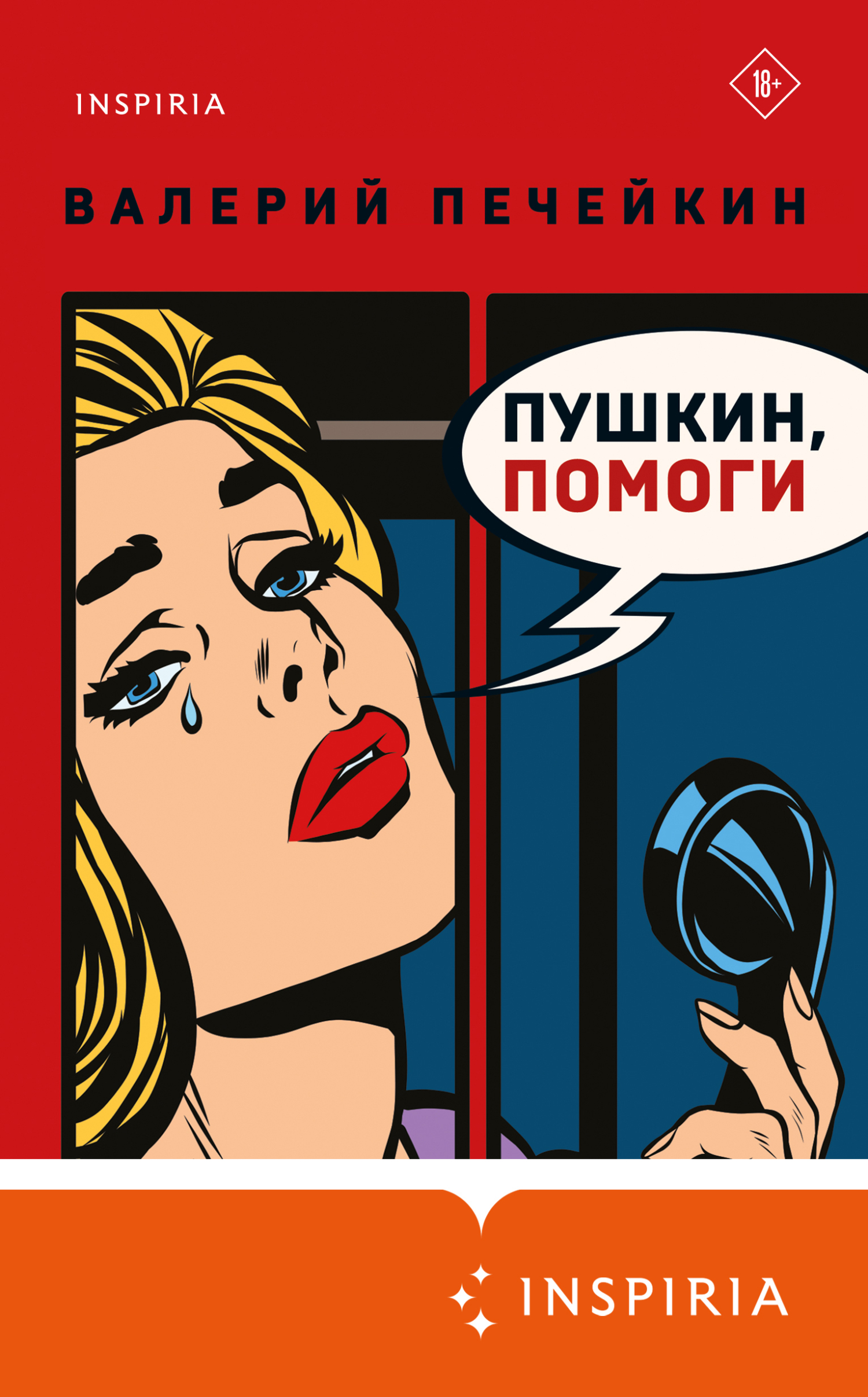дне колодца, увидел замокревшие смородины глаз. И из той глуби выстонала Марковна:
– Долго мучения сия будет, протопоп?
– До самыя до смертыньки, Марковна, – горько шепотом пообещал протопоп.
– Добро, Петрович, ино ещё побредём, – отшептнулась Марковна, обхватила шею Аввакума, поднялась, утвердилась на ногах.
Только в мае переволоклись в Иргенский острог. Казаки, сторожившие его, жили в достатке, даже запасы почти не тронули и хлеб посеянный уродился куда как добро. Было их здесь двадцать человек, и все живы-здоровы и веселы. Рыба ловилась хорошо, зверя добывали вволю. Обрадовались прибывшим, перво-наперво накормили свежепеченым хлебом с мясной похлёбкой из дичины, потом уж расселили по жилищам. Аввакуму досталось большое и ладное с виду зимовье. Разместились в нём всей семьёй, да еще с курочкой черной: не замёрзла, не задавили в санях. Павой вышагивала по полу, поквохтывала, радовала души: какая-никакая, а живность при руках, хозяйство, а скоро она возьми да удиви – стала приносить во всякий день по два яичка. Не могли нарадоваться, на неё глядя.
– Одушевленное Божье творение, – говорил Аввакум, – неспроста в лихое время к нам бысть послана. Все-то Им строится ко благу, токмо веру держи крепкой.
Как-то пришел десятник Диней, покатал в ладонях свежие яички, заключил уверенно:
– Это не курица, а как есть чудо дивное. Сколь живу, а подобия не знаю. В такое-то время лихое, сто рублёв при ней – плюново дело, железки.
Налаживалась жизнь, а тут случилось Аввакуму пристать к артели рыбачьей на дальнее озеро, а ввечеру пожаловали в зимовье Софьюшка и сноха Афанасия Филипповича, Евдокия Кирилловна, вся зарёванная: сынок её, двухлеток Симеонушко, расхворался, а раз протопопа нету, то она уж и не знает, чего делать, к кому бежать.
Мальца этого, родившегося в Нерчинском остроге, Аввакум тайно от деда Пашкова крестил, а как прилучался случай, приходил проведать его, или ребёнка приносили к нему, он благословлял его крестом, кропил святой водой и отпускал домой. И дитя было здраво и весело, да вот прибилась к нему болезнь незнаемая и в три дни обезножила.
Марковна как могла успокаивала боярыню:
– Уехали на карбасе в дальний угол озёрный. Там у казака-рыбалки грыжа-кила вывернулась с надсаду, вот и поехал править, он умеет. Да ты, Евдокия Кирилловна, погодь реветь-то, утресь вернется, и всё ладом станет.
– Боязно мне долго ждать-то, – всхлипывала боярыня. – Побреду к Арефе-знахарю.
И унесли мальчонку, осерчав на протопопа, а утром заявился Аввакум с плетёнкой, полной рыбы. Как узнал про знахаря, расходился, раздосадованный верой боярыни в чародейство бесовское:
– К вещбе колдовской понесло! – стоя над плетёнкой, всплескивал ручищами протопоп. – Ночь не перемоглась и уж к шептуну бесовскому переметнулась, а всякое волхование отречено от Бога, яко оно есть бесовское служение. Я-то небось знаю, что нудит ребятёночка, а тот набормочет, да опоит ведьмячими кореньями! Знаю-су их.
– Сходил бы теперь же, – попросила Марковна. – А то веть беда, Господи!
Заупрямился уязвлённый протопоп:
– Но уж. Коли баба лиха, так живи своим цыплячьим умом, прости её, Господи, худоверную. Жаль, ребятёнка губит.
Через сутки вновь пришла Софьюшка, оповестила, что как ни ладил мальчонку Арефа, а ему всё хуже.
– Да как и полегчает-то? – грубо высказал ей протопоп. – Мамка бесам на руки сама кинула ребятёнка, от Божьей заступы отворотилась. Вот и пущай надеется на Арефу-знахаря.
На ночь наведался дождь, лил крупно, не переставая, промокла крыша зимовья, густо закапало с потолка. Одежонки сухой уж ни на ком не было, спрятались дети с Марковной в широкую, осадистую печь, а Аввакум залёг на лежанку, укрылся сшитой из полос берестой.
По времени рано, до заутрени, слез с печи Аввакум, нашарил впотьмах епитрахиль, надел её на шею под обветшавшую вконец ризу, взял священного маслица – чуток его булькало на донышке пузырька – взял водицу святую в штофце зелёного стекла и тихо, чтоб не тревожить семью, вышел из зимовья.
Дождь как лил всю ночь, так и лил, притуманив прохладным парком избёшки и острожные стены с башнями. Надвинул на голову поплотнее колпак, осенился крестом и похлюпал по лужам к воеводской хоромине, ступил на крыльцо, а тут и выскочили в сени со свечами в руках, будто всю ночь караулили его приход, Марья с Софьей. Кланяясь – руки к груди – пятились перед ним в сенях, а там, оттянув дверь, пропустили в хоромину. Аввакум вошел, отряхнулся от дождя у порога, снял колпак, пошоркал обутыми в кожаные чирки ногами о плетёный коврик и тут из спальни выскочила опухшая от слез и бессонных ночей сноха воеводы – Евдокия Кирилловна, и упала протопопу в ноги.
– Батюшко, прости, – зашелестела бледными губами. – Покаяния моего ради прости, я от горя с ума спятясь, не ведала, что творю!
Следя мокром по выскобленному добела полу, с рассыпанными по плечам сильно поседевшими космами, Аввакум прошел в спальню и увидел тельце Симеонкино на кровати в свете поставка и свечей. Мальчонка углядел протопопа и, опираясь на локотки, приподнял голову, улыбнулся и что-то прошепелявил, весь устремясь к знакомому белому дяденьке, однако силёнок не хватило выпружинивать тельце, и он надломленно уронил головёнку на цветастый подголовник.
Аввакум подошел, сел на краешек кровати, протянул руку, пощупал лоб, пригладил растрёпанные волосёнки: «здрав нутром, – подумал, – а ноженьки тают, стали, как батожки, сухонькие, знать, не ходит, а вдаве ли имя по дому топотил».
– Боженька рядом с тобой, сынок, он поможет, и бегать станешь как прежде, – поглаживая ладонями исхудавшие ножки, ласково уверил его протопоп. – Он тебе и маслица живого дал, вот помажем с молитвой, и пойдут ножки, ведь пойдут же? То-т и оно.
Мальчонка закивал радостно, во все глаза глядя на такого-то большого, добролицего, воистину с иконы сошедшего, светолепного старца.
Аввакум растирал священным маслицем истонченные ножки, прощупывал слабенькие икры и читал, читал молитвы и вновь восчувствовал, как когда-то в Юрьевце-Повольском, пользуя сына вдовы-стрельчихи, что растворяется сердцем в слезах и молитве и тяжесть покидает тело. Ему как-то зналось, что выпусти он из ладоней эти батожки – тут же и воспарит от мальчонки в страшную высь, а этого допустить нельзя, неможно ни на миг вот теперь им разомкнуться, перестать быть одним связанными. Он видел, как мальчик засыпает, светло улыбается ему, шепчущему молитвы, и от этой улыбки ангельской отступает, рассеивается по углам ясно видимая протопопу, зависавшая только что вот над младенцем тёмная кисея.
Долго сидел над ним Аввакум с просьбой-мольбой ко Господу: не видел и не слышал, как пришел Еремей и опустился на колени пред кроватью, а вся челядь и сам Афанасий тихо гудят